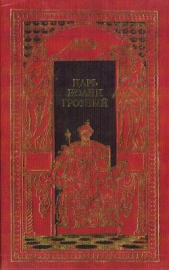Одиночество зверя (СИ)

Одиночество зверя (СИ) читать книгу онлайн
Президента Российской Федерации Игоря Петровича Саранцева охрана будит ночью в Горках-9 известием, что приехала его дочь Светлана и желает немедленно с ним увидеться. Из личного разговора выясняется, что она только что случайно сбила на своей машине человека и примчалась к отцу в поисках защиты от возможных юридических последствий. Саранцеву ещё предстоит узнать о ближайших планах бывшего президента — действующего премьер-министра Покровского — и встретиться со своим прошлым, но он ничего не знает о существовании дочери погибшего, Наташи Званцевой, и наступивший день они проводят совсем по-разному…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Кажется, я понимаю смысл «Мельницы» в твоих глазах — Мэгги совершает аморальный поступок, но по прежнему вызывает симпатию.
— Аморальный поступок, но не преступление.
— Ладно, но к «Епифанским шлюзам» я уж никак не могу твой подход приложить, — всплеснула руками Елена Николаевна.
— Бертран приносит себя в жертву своей невесте, а она выходит замуж за другого, не совершавшего никаких подвигов.
— Ну конечно, всё очень просто. Хорошо, ты стала циничной. И твоя жизнь изменилась?
— Конечно. Нельзя работать адвокатом по уголовным делам и не воспитать в себе цинизм. Нужно разглядеть в подзащитном убийце хоть проблеск человека, иначе очень быстро рехнёшься или станешь пособником.
— Зачем вообще работать адвокатом убийц? — ехидно вставил Саранцев. — Платят хорошо?
— Во имя правосудия, Игорь Петрович. Слышали такое слово? Вы ведь у нас гарант Конституции.
— Ребята, хватит вам цапаться, сколько можно, — поспешила вмешаться Елена Николаевна. — Анечка, я всё же не понимаю — ты прочла эти книги и решила стать адвокатом по уголовным делам?
— Нет, скорее, наоборот. Стала адвокатом, потом задумалась — почему, и свалила всю вину на эти книги.
— А «Преступление и наказание» и «Воскресение» на тебя не повлияли?
— Трудно сказать, но, кажется, нет. У Достоевского и Раскольников, и Соня Мармеладова ненастоящие, а у Толстого Нехлюдов и Катюша стоят слишком далеко от юриспруденции. Эти вещи скорее подвинут уйти в монастырь, подальше от рода человеческого.
— Ты очень лихо расправилась с классиками.
— Ничего не могу с собой поделать. Я на работе постоянно говорю то, что положено, поэтому в свободное время на меня просто удержу нет. Начинаю выбалтывать подряд все свои мысли.
— Но ты ведь любишь свою работу?
— Я считаю её нужной.
— Нужной? Ты хочешь по утрам идти на работу или нет?
— Хочу. Я вообще не понимаю, как можно ненавидеть своё занятие. Меня бы никакие деньги не заставили идти в суд, если бы не было желания.
— Но почему именно эти три книги, как ты считаешь, способствовали твоему выбору профессии? Ведь можно долго перечислять все произведения мировой литературы о грешниках, вызывающих сочувствие. В конце концов, Гамлет тоже убивал людей.
— Почему — объяснить не смогу. Мне так показалось. К душе ведь шкалу или весы не приставишь. Читала, читала — и вычитала в итоге туманное ощущение. С вашей литературой, Елена Николаевна, всегда так.
— Думаю, ты права. Великие книги на вопросы не отвечают, а помогают искать ответы.
— Книги, Елена Николаевна, сбивают людей с толку, — добавил давно выстраданную мысль Саранцев, — и мешают им находиться в мире с самим собой. Читал я во времена перестройки вещь одного древнего русского полуфашиста. Он развивал в ней точку зрения на русскую литературу как на причину нескольких внешних агрессий — мол, немцы поверили Толстому, будто Каратаев действительно является обобщённым образом русского народа, и сочли победу над таким народом вполне достижимым делом.
— Мы говорили о великих книгах, Игорь, а не о полуфашистах.
— Попробуй, разберись, где великая книга, а где — нет. Ведь на наших с вами глазах с конца восьмидесятых копья ломаются. Сначала великие советские книги объявили конъюнктурными поделками, а бывший самиздат и нелегальный тамиздат — шедеврами, теперь старые советские романы опять на щит поднимают. А человек без высшего образования стоит посередине и думает: кто же прав?
— Основную часть советской школьной программы составляли великие тексты, — безапелляционно заявила Елена Николаевна. — Даже если взять «Прозаседавшихся», всё равно — Маяковский талантлив. Другое дело, что школьникам лучше бы знать другие его стихи, которые способны их разбередить. А их у Владимира Владимировича много — вся его ранняя поэзия — крик одинокого подростка на безлюдной тёмной площади.
— А с «Поднятой целиной» как быть?
— Шолохова тоже нужно уметь читать, — настаивала на своём Елена Николаевна. — У него ведь и «Судьба человека» есть — вещь совершенно поразительная, даже для оттепели. Едва ли не единственный персонаж русской литературы, добровольно сдавшийся в плен. Даже до Советской власти, у Толстого Андрей Болконский попал в плен в бессознательном состоянии, и Синцов у Симонова тоже, не говоря уже о советских оттепельных фильмах, в том числе «Чистом небе». А здесь главный герой повествования, вместо совершения подвига, при виде немцев выходит из машины и сдаётся. Они пальцем показывают ему, в какой стороне сборный пункт пленных, и он сам приходит туда, без конвоя, как и миллионы реальных советских солдат. Потом его мобилизуют в немецкую армию, и он несёт службу в немецкой форме, семья его погибла не от рук карателей, а от советской бомбы — ни в какой лейтенантской военной прозе вы такого героя не найдёте, он есть только у якобы бы насквозь официозного Шолохова. Я уже не говорю о «Тихом Доне» — «Доктор Живаго» по сравнению с ним просто панегирик революции.
— Елена Николаевна, но ведь школьная программа по литературе, в моём понимании, должна способствовать формированию у школьников вкуса, — продолжал Саранцев. — Она по определению призвана строить канон восприятия.
— Положим, должна. А ты имеешь возражения против действующей программы?
— Нет, я всё ещё о прошлом. Почему же советская школа провалила свою фундаментальную задачу? Вырастила поколения граждан, не питающих уважения к своей стране вообще и к её культуре в частности?
— Во-первых, у школы нет монополии на воспитание. Семья и окружающая жизнь к старшим классам оказывают уже гораздо больше влияния на формирование мировоззрения подростка, чем учителя. Во-вторых, я категорически не согласна с твоей сентенцией о поколениях. Я не слышала о таких поколениях, откуда ты о них узнал?
— Ему доклад подсунули, он его и прочитал, — вставила как бы ненароком Корсунская.
— Почему же в девяносто первом ни один человек не вышел на защиту Советского Союза?
— Мне кажется, потому что защищать Советский Союз тогда означало защищать Горбачёва, а у него защитников было мало.
— А я думаю иначе, — настаивал Саранцев. — Горбачёв так и не ушёл от прежней идеологии, хотя желающих строить коммунизм в стране уже почти не оставалось — по крайней мере, среди активного населения. И школа невольно сыграла свою роль, как и до революции. Тогда посредством насильственного преподавания закона Божьего успешно воспитали воинствующих атеистов, а к концу восьмидесятых с помощью научного коммунизма вырастили поколения антисоветчиков, которые не просто считали качество жизни на Западе более высоким, чем в СССР, а ещё и приукрашивали его, и высмеивали пропагандистские передачи советского телевидения.
— Ладно, Игорь, хватит заговаривать мне зубы — твоя очередь высказываться о литературе.
Саранцев замолчал и внутренне всё больше раздражался. Он не хотел говорить правду и собирался соврать половчее, но фантазия ему не вовремя отказала. Ему нравился Грэм Грин, особенно «Наш человек в Гаване» и «Тихий американец», он любил «производственные» романы Артура Хейли, особенно «На высотах твоих», и рассказы О’Генри, особенно повесть «Короли и капуста», а из отечественных авторов предпочитал Аксёнова. «Затоваренную бочкотару» он запомнил с подростковых лет, когда прочёл её в «Юности», хотя не имел тогда ни малейшего представления об авторе и даже фамилию его по детской привычке не запомнил. И уже намного позже, во время перестройки, после возвращения опального эмигранта в литературный контекст, с изумлением случайно узнал о его авторстве. Книги всплывали в сознании Игоря Петровича одна за другой, но не доставляли ему своим появлением радости — он хотел себе более солидного чтения. Грин вообще зачастую мешал ему работать — президент при каждом упоминании внешней разведки в своём служебном кабинете невольно вспоминал «Нашего человека» и на некоторое время терял серьёзность восприятия.
— Назвать книги, которые определили мою жизнь, я не могу.