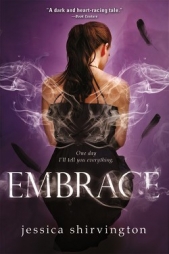Что я любил

Что я любил читать книгу онлайн
Сири Хустведт — одна из самых заметных фигур в современной американской литературе: романистка, поэтесса, влиятельный эссеист и литературовед, а кроме того — на протяжении без малого тридцати лет жена и муза другого известного прозаика, Пола Остера. "Что я любил" — третий и, по оценкам критики, наиболее совершенный из ее романов. Нью-йоркский профессор-искусствовед Лео Герцберг вспоминает свою жизнь и многолетнюю дружбу с художником Биллом Векслером. Любовные увлечения, браки, разводы, подрастающие дети и трагические события, полностью меняющие привычный ход жизни, — энергичное действие в романе Хустведт гармонично уживается с проникновенной лирикой и глубокими рассуждениями об искусстве, психологии и об извечном конфликте отцов и детей. Виртуозно балансируя на грани между триллером и философским романом, писательница создает многомерное и многоуровневое полотно, равно привлекательное как для "наивного" читателя, так и для любителя интеллектуальной прозы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сири Хустведт
Что я любил
Полу Остеру
Часть первая
Я нашел вчера письма Вайолет к Биллу. Вложенные в книгу листки словно вырвались на волю и в беспорядке рассыпались по полу. О существовании этих писем я знал долгие годы, но ни Билл, ни Вайолет никогда не рассказывали мне, что в них. Зато они рассказывали, что, прочитав последнее, пятое письмо, Билл понял, что дольше не может быть мужем Люсиль, закрыл за собой дверь дома на Грин-стрит и прямиком направился в Ист-Виллидж, где жила Вайолет. Об этом было столько говорено-переговорено, что теперь эти листочки стали куда весомее. Читал я с трудом, глаза уже никуда не годятся, но все-таки мне удалось разобрать каждое слово. Дочитав до конца, я понял, что должен сегодня же начать эту книгу.
Когда я лежала на полу в мастерской, а ты писал меня, я на тебя смотрела. Смотрела на твои руки, плечи и особенно на пальцы, — писала Вайолет в четвертом письме. — Как же я хотела, чтобы ты повернулся, подошел ко мне и провел рукой по моему телу тем же движением, каким втирал краску в холст. Как я хотела, чтоб твой палец давил мне на кожу, как будто это полотно, — мне казалось, что, если этого не произойдет, я сойду с ума, но с ума я так и не сошла, а ты до меня так и не дотронулся. Ни разу. Даже руки не пожал.
Картину, о которой пишет Вайолет, я впервые увидел лет двадцать пять назад. Это было в Сохо, там, на Принц — стрит, есть одна галерея. В то время я еще не знал ни Билла, ни Вайолет. Большинство выставленных работ показались мне скучной минималистской тягомотиной. Картина Билла висела отдельно, большое полотно, метр восемьдесят на два сорок. На нем была изображена женщина, лежащая на полу. Приподнявшись на локте, она словно пыталась разглядеть что-то за пределами холста. Оттуда, извне, в пустую комнату рвался ослепительный свет, заливавший лицо и плечи молодой натурщицы. Ее правая рука спокойно лежала на лобке. Подойдя поближе, я разглядел, что она сжимает в пальцах желтую игрушечную машинку — крошечную копию вездесущего нью-йоркского такси.
Только через минуту я понял, что на холсте изображены три человека. В правом дальнем углу я заметил еще одну женщину, которая убегала прочь; во мраке можно было разобрать только ее ступню и щиколотку, остальное растворилось за пределами картины, но оставшаяся в раме кожаная туфля была прорисована с такой нестерпимой тщательностью, что, раз взглянув, я возвращался к ней глазами снова и снова. Исчезнувшая женщина становилась таким же важным персонажем картины, как и та, другая. Но на холсте их было трое. Третий был тенью. В какой-то момент я принял его тень за свою, но потом понял, что она выписана художником и является частью замысла. Кто-то стоял снаружи, за пределами картины, там же, где стоял я, когда заметил, что живот и бедра натурщицы почему-то кажутся темнее; кто — то разглядывал молодую красавицу, на которой не было ничего, кроме мужской футболки.
Справа от картины висела маленькая табличка с надписью: "Уильям Векслер. Автопортрет". Сперва я решил было, что художник шутит, но потом понял, что нет. Возможно, подобное название рядом с мужским именем намекает на некое женское начало в его "я", возможно, речь идет не о раздвоении, а о растроении личности? Возможно, этот завуалированный треугольник — две женщины и тот, кто смотрит, — имеет непосредственное отношение к самому художнику? А может, название картины связано не столько с ее содержанием, сколько с формой? Присутствие творца то становилось совершенно незаметным, то внятно проступало на холсте. Его не чувствовалось в фотографической точности, с которой было выписано лицо женщины, в свете, льющемся сквозь невидимое окно, в гиперреалистическом изображении туфли. Но зато длинные волосы натурщицы представляли собой густое месиво краски с мощными мазками красного, зеленого, синего. Вокруг туфли и лодыжки были отчетливо видны широкие полосы — черные, серые, белые, — нанесенные мастихином. В этих плотных сгустках пигмента я заметил отпечатки большого пальца. Кто-то резко, даже зло месил краску.
Сейчас эта картина висит на стене в моей комнате. Стоит мне повернуть голову, и я вижу ее, хотя вижу уже иначе, чем прежде, глаза не те. Я купил ее за две с половиной тысячи долларов, примерно через неделю после того случайного похода в галерею. Эрика тогда долго молча рассматривала ее, почти с того самого места, где сейчас сижу я, а потом негромко сказала: — Это все равно что смотреть чужой сон.
После ее слов я оглянулся на картину и вдруг понял, что все это смешение стилей и сбитый фокус словно пришли из изломанной яви снов. Губы женщины на холсте были слегка приоткрыты и обнажали чуть торчащие вперед зубы. Художник сделал их ослепительно-белыми и какими-то по-звериному крупными. Тогда-то я и заметил этот синяк на коленке. Я видел его и раньше, но сейчас багровое пятно, отливавшее с одного края желто-зеленым, притягивало к себе взгляд, словно магнит, будто оно и являлось подлинной сутью картины. Я подошел к холсту и медленно провел пальцем по контуру синяка, чувствуя, как нарастает возбуждение, потом оглянулся на Эрику. За окном стоял теплый сентябрьский день, и она была в легкой кофточке, открывавшей усеянные золотистыми веснушками плечи. Я легонько коснулся их губами, целуя веснушки, потом мягкую теплую кожу под завитками волос на шее. Я опустился перед Эрикой на колени. Мои руки скользнули вверх по ее бедрам, нетерпеливо задирая юбку. Мой язык дрожал как жало змеи. Эрика чуть раздвинула колени, одним движением стянула с себя трусики и, усмехнувшись, швырнула их на диван. Она мягко толкнула меня на пол и села сверху. Я лежал на спине, чувствуя, как ее волосы щекочут мне щеки, когда она наклонилась, чтобы поцеловать меня. Она выпрямилась, сняла кофточку и расстегнула лифчик. Мне всегда нравилось смотреть на жену вот так, совсем близко. Я протянул руку и осторожно обвел пальцем идеально круглую родинку на ее левой груди. Эрика снова наклонилась вперед, легонько целуя мне лоб, щеки, подбородок. Я чувствовал, как ее пальцы нащупывают молнию у меня на брюках.
В те дни мы с Эрикой жили в каком-то постоянном угаре. Любая мелочь могла спровоцировать бешеный любовный пароксизм на диване, на полу, а однажды даже на обеденном столе. Барышни периодически возникали в моей жизни еще со времен студенчества; они то появлялись — кто на месяц, кто на день, — то исчезали, и между ними тянулись болезненные пустоты, когда не было ни женщин, ни секса. Эрика потом шутила, что все эти муки пошли мне на пользу. Я стал более чутким и научился ценить женское тело. Но на этот раз дело было в картине. Я потом много раз пытался понять, почему на меня так подействовал вид синяка на лодыжке натурщицы. Эрика после сказала, что моя реакция была продиктована смутным желанием самому оставить на чьем-то теле отметину:
— Люди — существа тонкокожие, только тронь — уже синяк или царапина. Знаешь, тут и речи нет о каких-то следах побоев, просто маленькое темное пятнышко, но художник написал его так, что оно сразу же бросается в глаза. Он же явно смакует этот синяк, ему хочется, чтобы эта отметина осталась навсегда.
Эрике тогда было тридцать четыре, мне — на одиннадцать лет больше, и мы уже год как были женаты. Мы в полном смысле слова столкнулись в Батлеровской библиотеке Колумбийского университета. Октябрь, суббота, время близилось к обеду, так что в книгохранилище кроме нас двоих не было ни души. Я слышал ее шаги, чувствовал ее присутствие за уходящими во мрак стеллажами, освещенными тусклым светом мерно гудящей лампы. Я нашел книгу, которую искал, и направился к лифту. Тишина стояла мертвая, только лампа гудела. Я завернул за угол и споткнулся об Эрику, которая, оказывается, сидела себе на полу с другой стороны стеллажа. Я чудом удержался на ногах, но уронил очки. Эрика подняла их с полу, я наклонился, чтобы взять их у нее, но в этот момент она начала выпрямляться и с размаху въехала мне головой в подбородок, потом сочувственно посмотрела на меня и улыбнулась: