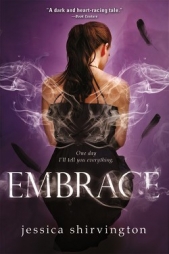Что я любил

Что я любил читать книгу онлайн
Сири Хустведт — одна из самых заметных фигур в современной американской литературе: романистка, поэтесса, влиятельный эссеист и литературовед, а кроме того — на протяжении без малого тридцати лет жена и муза другого известного прозаика, Пола Остера. "Что я любил" — третий и, по оценкам критики, наиболее совершенный из ее романов. Нью-йоркский профессор-искусствовед Лео Герцберг вспоминает свою жизнь и многолетнюю дружбу с художником Биллом Векслером. Любовные увлечения, браки, разводы, подрастающие дети и трагические события, полностью меняющие привычный ход жизни, — энергичное действие в романе Хустведт гармонично уживается с проникновенной лирикой и глубокими рассуждениями об искусстве, психологии и об извечном конфликте отцов и детей. Виртуозно балансируя на грани между триллером и философским романом, писательница создает многомерное и многоуровневое полотно, равно привлекательное как для "наивного" читателя, так и для любителя интеллектуальной прозы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все, так или иначе связанное с бытом, съехало в нижний конец помещения. Возле старой ванны на гнутых ножках притулился стол. В него упиралась двуспальная кровать, стоявшая почти вплотную к кухонной раковине. Плита плавно переходила в устрашающих размеров книжный шкаф, ломившийся от книг. Книги были повсюду. Они стопками громоздились на полу и на кресле, так что места для сидения там просто не оставалась. Весь этот хаос свидетельствовал не столько о беспросветной бедности хозяина, сколько о его полнейшем равнодушии к домашнему уюту. Со временем он стал богаче, но его безразличие к вещам никуда не делось. Ему было до смешного все равно, где жить, на чем есть и спать. Он этого просто не замечал.
Даже в тот первый день нашего знакомства я ощутил его аскетизм, его почти животное стремление к первозданности, его бескомпромиссность. Это чувство рождалось не столько из слов, сколько из физического присутствия. Внешне Билл казался человеком спокойным, тихим, чуть скованным в движениях, но вместе с тем он излучал невероятную целеустремленность, захлестывающую все вокруг. В нем не было пафоса, снобизма или бьющего через край обаяния. Тем не менее, стоя рядом с Биллом перед его холстами, я чувствовал себя пигмеем, представшим пред светлые очи великана. Это заставляло меня с большим тщанием и трепетом подходить к каждому сказанному мной слову. Он подавлял меня, я бился за жизненное пространство.
Мы тогда посмотрели шесть его картин: три полностью законченных и три подмалевка с эскизными линиями и большими цветовыми плоскостями. Купленная мною работа относилась к этой же серии портретов молодой темноволосой натурщицы, но от холста к холсту объемы девушки менялись. На первом она казалась горой бледно-розовой плоти, втиснутой в тугие нейлоновые трусики и футболку, настоящая аллегория обжорства и невоздержанности. Ее гигантским формам тесно было в рамках багета. Толстые пальцы сжимали детскую погремушку. Неестественно длинная тень мужчины падала ей на правую грудь, накрывала гигантских размеров живот и истаивала у бедер. На втором полотне натурщица казалась куда тоньше. Она лежала на матрасе в одном белье, разглядывая собственное тело, причем взгляд ее был одновременно чувственно-самовлюбленным и оценивающим. В руке она держала большую самопишущую ручку, раза в два больше настоящей. На третьем холсте женщина вновь была, что называется, в теле, но ей далеко было до пышных форм натурщицы с моей картины. Одетая в рваную ночную рубашку из байки, она сидела на кровати, небрежно расставив ноги. Рядом с ней на полу валялись красные гольфы. Присмотревшись, я заметил у нее под коленями следы от тугих резинок.
— Знаете, — сказал я, — у одного из малых голландцев, Яна Стена, есть такая работа, она находится в Рейксмузее. Там изображена женщина за утренним туалетом, которая стягивает чулок. Очень похоже.
В первый раз за все время Билл улыбнулся:
— Я видел эту картину в Амстердаме, когда мне было двадцать три. После этого я впервые задумался, как писать кожу. Я не люблю "ню", это все художественные изыски, а вот человеческая кожа меня занимает чрезвычайно.
Мы еще немного поговорили о том, как в разное время художники писали кожу. Я помянул фантастической красоты стигматы у "Святого Франциска" Сурбарана. Билл рассказал о цвете кожи у распятого Христа с Изенгеймского алтаря Грюневальда и о розовых телесах обнаженных натурщиц Франсуа Буше — Билл назвал их "порнодамочками". Потом разговор зашел об изменчивости канонов, по которым создавались распятия, оплакивания и положения во гроб. Стоило мне завести речь о том, что мне близок Понтормо с его маньеризмом, как Билл заговорил о Роберте Крамбе:
— В нем чувствуется неискушенность. В его работах меня подкупает какая-то уродливая отвага.
Я спросил, что он думает о Жорже Гросе, и Билл удовлетворенно кивнул:
— В самую точку! Они же как родные братья. Помните, у Крамба есть серия, "Легенды земли Гениталии"? Пенисы на ножках, которые бегают сами по себе…
— Как гоголевский "Нос", — подхватил я.
После этого Билл полез за своим собранием медицинских рисунков. Я в этой области был полным профаном. Он снимал с полок книгу за книгой, демонстрируя мне иллюстрации, относящиеся к разным эпохам: вот средневековый рисунок, изображающий циркуляцию жизненных соков, вот анатомический рисунок века восемнадцатого, вот датированное девятнадцатым веком изображение френологических шишек на мужской голове, вот относящийся к тому же времени рисунок женских гениталий, представляющий собой курьезный "вид сверху" в обрамлении вывернутых наружу ляжек. Склонив головы, мы внимательно рассматривали мастерски выписанную вульву, клитор, складки малых губ и темное заштрихованное отверстие вагины. Линия была твердой, отточенной.
— Похоже на чертеж какого-нибудь механизма, — заметил я.
— Действительно. Странно, что мне самому никогда не приходило это в голову, — отозвался Билл, не отрывая глаз от картинки. — Мерзость, да? Все вроде правильно, а выглядит как глумливая издевка. Наверное, человек считал, что это просто наука.
— А разве бывает "просто наука"?
— То-то и оно. Все дело в тебе, в том, как ты сам видишь. Ведь ничего абсолютного не существует. То, что перед тобой, — это отражение того, что у тебя внутри, твоих мыслей, чувств. Сезанн требовал "голого мира", но мир не может быть голым. Я в своих картинах стараюсь создать неясность.
Тут он взглянул на меня и улыбнулся:
— Раз это единственное, что ясно всем.
— Так вот почему на ваших картинах натурщица то толстеет, то худеет?
— Ну, этого я как раз не задумывал, случайно получилось.
— А смешение стилей?
Билл подошел к окну, достал сигарету и закурил. Он глубоко затянулся, стряхнул пепел на пол и внимательно посмотрел на меня. В его взгляде была такая пронзительность, что мне вдруг захотелось отвести глаза, но я удержался.
— Мне тридцать один, и я не продал пока ни одной картины. Вы — мой первый покупатель, мать не в счет. Я пишу уже десять лет. Но галерейщики и агенты заворачивали каждую мою картину сотни раз.
— Бывает. У Виллема де Кунинга первая персональная выставка состоялась в сорок лет.
— Я не об этом, — произнес он с расстановкой*- Я не хочу быть интересным для всех. Чего ради всем вдруг должно стать интересно? Но я хочу понять, почему это интересно вам.
Я все ему рассказал. Мы сидели на полу, прямо перед картиной, и я объяснял, что мне нравится недосказанность, нравится, когда непонятно, куда смотреть, что большинство современных образчиков символизма вызывают у меня смертную тоску, а его, Билла, полотна — нет. Мы говорили о де Кунинге, точнее, об одной его картинке, которая Биллу была особенно дорога: "Автопортрет с воображаемым братом". Потом речь зашла об эксцентричном своеобразии Хоппера и, конечно, о Марселе Дюшане. Билл назвал его "ножом, искромсавшим искусство в клочья". Я было подумал, что он это в уничижительном смысле, но, как выяснилось, ошибался, потому что Билл добавил:
— Дюшан, конечно, прохвост, каких мало, но мне он страшно нравится.
Я спросил о черных точках волос на ногах натурщицы с "худого" портрета — следы неумелого бритья, — зачем-то Билл решил включить в картину эту подробность. Он в ответ хмыкнул. Оказывается, при общении с человеком внимание художника зачастую целиком приковано к какой-то одной детали: выщерблинке на зубе, полоске лейкопластыря на пальце, надутой вене, расчесу, царапине или родинке, — причем в это мгновение она заслоняет все остальное. Именно это ощущение ему было важно схватить.
— Картинка ведь постоянно меняется, — объяснил он.
Когда я заговорил о подтексте его полотен, Билл сказал, что для него сюжет — это кровоток в живом теле, это те тропы, по которым движется сама жизнь. Удивительно яркий образ, я его навсегда запомнил. Как художник, он рвался показать незримое через очевидное, и, как это ни парадоксально, незримое должно было найти свое отражение в конкретной фигурной композиции, которая является всего лишь застывшим слепком формы, и не более того.