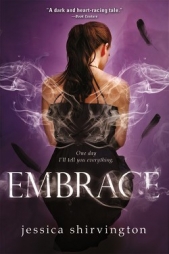Что я любил

Что я любил читать книгу онлайн
Сири Хустведт — одна из самых заметных фигур в современной американской литературе: романистка, поэтесса, влиятельный эссеист и литературовед, а кроме того — на протяжении без малого тридцати лет жена и муза другого известного прозаика, Пола Остера. "Что я любил" — третий и, по оценкам критики, наиболее совершенный из ее романов. Нью-йоркский профессор-искусствовед Лео Герцберг вспоминает свою жизнь и многолетнюю дружбу с художником Биллом Векслером. Любовные увлечения, браки, разводы, подрастающие дети и трагические события, полностью меняющие привычный ход жизни, — энергичное действие в романе Хустведт гармонично уживается с проникновенной лирикой и глубокими рассуждениями об искусстве, психологии и об извечном конфликте отцов и детей. Виртуозно балансируя на грани между триллером и философским романом, писательница создает многомерное и многоуровневое полотно, равно привлекательное как для "наивного" читателя, так и для любителя интеллектуальной прозы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С Берни Уиксом, хозяином галереи на Бродвее, меня свел мой коллега Джек Ньюман. "Галерея Уикса" процветала, во — первых, благодаря удивительному нюху Берни на молодых, подающих надежды художников, а во-вторых, благодаря его связям. Он, что называется, "был знаком со всем Нью — Йорком", что на самом деле свидетельствует не столько о многочисленности его знакомств, сколько о знакомствах с теми немногими, кто, по общему признанию, пользовался влиянием и властью. Помню, как я представил ему Билла. Берни тогда было лет сорок пять, но из-за его моложавой внешности возраст превращался в категорию чисто условную. Он носил безукоризненные, с иголочки костюмы по последней моде и к ним — жизнерадостные кроссовки. Разумеется, эта легкомысленная обувь сообщала ему известную экстравагантность, которая всегда приветствовалась в мире артистической богемы, но она же была и неким логическим продолжением его неугомонности. Ни единой минуты Берни Уикс не сидел спокойно. По лестницам он взлетал, в лифт заскакивал, стоя перед картиной, покачивался с носка на пятку, а во время разговора чуть заметно пружинил коленями. Притягивая к себе взгляды общественности, кроссовки словно возвещали миру о кипучей энергии своего хозяина и его неукротимом стремлении к новизне. Прибавьте к этому захлебывающуюся скороговорку, столь же неугомонную. И пусть речи Берни подчас были бессвязны, бессмысленными они не были никогда.
Я долго уговаривал Уикса посмотреть работы Билла, даже Джека Ньюмана попросил поднажать со своей стороны. Джек до этого уже бывал в мастерской на Бауэри и, по его словам, успел стать адептом "толстеющих" и "худеющих" портретов Вайолет.
Меня не было в мастерской, когда Берни наконец туда зашел, но все произошло именно так, как я рассчитывал. Осенью того же года картины были выставлены в "Галерее Уикса".
— Сумасшедшие, конечно, вещи! Совершенно сумасшедшие! — трещал Берни. — Но в этом-то и соль! Я думаю, этот фокус с объемом, ну, толстая — тощая, обязательно сработает. Сейчас же все на диетах. И эта фишка с автопортретами — просто класс. Конечно, с фигурными композициями сегодня соваться очень рискованно, да он к тому же новичок, но в нем что-то есть. И эти его прямые цитаты — просто в самую точку. Тут тебе и Вермеер, и де Кунинг, и поздний Гастон…
Накануне открытия выставки Вайолет Блюм улетела в Париж. Я видел ее всего один раз. Мы столкнулись на лестнице, ведущей в мастерскую. Я поднимался, она бежала вниз. Я сразу узнал ее и окликнул, она оглянулась и замедлила шаг. Я представился. В жизни Вайолет была куда красивее, чем на портретах, круглолицая, с большими зелеными глазами, окаймленными темными ресницами. Глаза на пол-лица, каштановые локоны до плеч. Фигуру под длинным пальто не разглядишь, но худой она мне не показалась, хотя и до пышечки ей тоже было далеко. Она сердечно пожала мне руку, сказала, что Билл ей про меня рассказывал, и добавила, что из портретов ей больше всего нравится толстый, с желтой машинкой. Потом она извинилась, сказала, что очень спешит, и помчалась вниз по лестнице. Я поднялся еще на несколько ступенек и услышал, что она меня зовет. Я посмотрел вниз. Вайолет уже стояла перед входной дверью.
— Вы позволите мне называть вас Лео? — крикнула она.
Я кивнул.
Вайолет повернулась, поднялась на несколько ступенек вверх и снова остановилась на полпути.
— Билл очень вас любит, — нерешительно произнесла она, подбирая слова. — Понимаете, я уезжаю. И мне было бы приятно знать, что вы с ним рядом.
Я снова кивнул. Вайолет поднялась еще на две ступеньки, положила мне руку на плечо и сжала его, словно желая, чтобы я непременно поверил ее словам. Она стояла так несколько секунд, не шевелясь и глядя мне прямо в глаза.
— Какое у вас замечательное лицо, — наконец сказала она. — Особенно нос. У вас удивительно красивый нос.
Прежде чем я сумел хоть как-то отреагировать на этот комплимент, она повернулась и побежала вниз по лестнице. Внизу хлопнула входная дверь.
В тот вечер и еще много вечеров подряд, перед тем как почистить зубы, я внимательно рассматривал в зеркале свой нос. Я крутил головой и так и сяк, пытаясь увидеть себя в профиль. До этого я в жизни даже не задумывался о том, какой у меня нос, относился к нему скорее критически и ничего хорошего в нем не находил. Но отныне эта штука, торчащая у меня посередине лица, изменилась раз и навсегда, изменилась благодаря словам очаровательной молодой женщины, которая каждый день смотрела на меня с портрета на стене.
Билл попросил меня написать для выставки что-то вроде очерка или эссе. Мне никогда не приходилось писать о художнике-современнике, и для меня это был первый опыт, а о Билле никто никогда не писал, так что и для него это был первый опыт. Я назвал очерк "Многоликое "я". С тех пор его много раз переводили на разные языки и переиздавали, но тогда эти двенадцать страничек были для меня, прежде всего, данью дружбы и преклонения перед талантом художника. Каталог печатать не стали, а мой очерк наскоро сброшюровали и просто вручали посетителям на входе. Я писал почти три месяца, урывками, в промежутках между семинарами, заседаниями кафедры и проверкой студенческих работ, просто занося на бумагу мысли, которые после занятий вдруг приходили в голову где-нибудь в вагоне метро. Берни хорошо понимал, что даже если Биллу и его картинам удастся прорваться сквозь засилье минимализма, все равно без поддержки критиков не обойтись. Так что я, главным образом, упирал на то, что Билл в своем творчестве идет от исторической традиции западноевропейской живописи, коренным образом ее переосмысляя, причем принципиально иным способом, чем все его предшественники — модернисты. Всякий раз, включая в композицию тень зрителя, художник акцентирует пространство между зрителем и картиной, потому что именно там и происходит подлинное действие. Картина начинает существовать только в тот момент, когда на нее смотрит зритель. Но пространство, которое в этот момент занимает зритель, принадлежит еще и художнику. Таким образом, зритель как бы встает на место художника, он смотрит на автопортрет, но видит не мужчину, чья подпись стоит в правом нижнем углу, а женщину. Женские образы в живописи традиционно служат для создания эротического напряжения, которое пробуждает в любом, кто смотрит на холст, мужчину, снедаемого жаждой обладания. История знает множество великих мастеров, пытавшихся сломать подобный стереотип восприятия: это и Джорджоне, и Рубенс, и Вермеер, и Мане, но, насколько мне известно, ни один художник мужеского полу не заявлял в открытую, что женщина на картине — это он сам. На эту мысль меня натолкнула Эрика. Как-то вечером она сказала:
— В каждом из нас есть мужчина и женщина. В конце концов, мы все рождены от отца и матери. Когда я смотрю на картину и вижу красивую женщину, вижу ее тело, то одновременно чувствую себя и тем, кто смотрит, и той, на кого смотрят. Эротизм возникает в тот миг, когда я представляю себе, что я — мужчина, который смотрит на меня. Так что либо этот момент раздвоения присутствует, либо вообще ничего не происходит.
Эрика изрекла это, подняв глаза от абсолютно недоступного для понимания труда Жака Лакана, который как раз читала. Она сидела на кровати в ночной рубашке с глубоким вырезом. Небрежно забранные назад волосы открывали нежные мочки ушей.
— Благодарю вас, профессор Штайн, — церемонно ответил я и положил руку ей на живот. — Слушай, неужели там правда кто-то есть?
Эрика опустила книгу, притянула меня к себе и поцеловала в лоб. Она была на третьем месяце, но мы пока никому не говорили. Ранний токсикоз, с тошнотой и слабостью, был уже позади, но Эрика за эти месяцы очень переменилась. Она то лучилась от счастья, то едва сдерживала слезы. Она и раньше не могла похвастаться ровностью нрава, но теперь ее настроения сменяли друг друга, как погода осенью. То она за завтраком рыдала в три ручья, потому что прочла в газете статью о злоключениях четырехлетнего сиротки по имени Джой, которого гоняли из одной приемной семьи в другую. То вдруг среди ночи просыпалась, захлебываясь от рыданий, потому что ей приснилось, что она оставила нашего малыша на пароходе, он уплыл, а она осталась на пристани. А однажды, придя домой, я обнаружил жену в гостиной на диване — по ее щекам градом катились слезы. Я спросил, что случилось. В ответ она шмыгнула носом и произнесла: