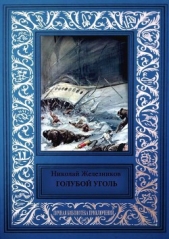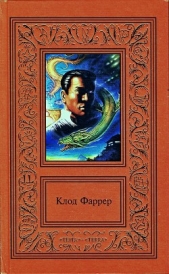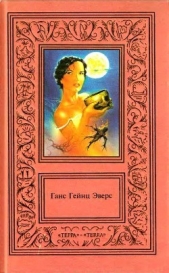Сочинения в 2 т. Том 1

Сочинения в 2 т. Том 1 читать книгу онлайн
В первый том вошли: повести, посвященные легендарному донецкому краю, его героям — людям высоких революционных традиций, способным на самоотверженный подвиг во славу Родины, и рассказы о замечательных современниках, с которыми автору приходилось встречаться.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Иногда, если ваша «прикидка» оправдается, вы скажете: «Такое должно было случиться, я знал». Да и не трудно предугадать простейшее: ну, к примеру, что любитель спиртного, ваш соседушка, непременно познакомится с милицией.
А если «прикидка» не сбудется? Если человек, с которым вы встречаетесь ежедневно, неприметный и однотонный или крикливый и пустой, вдруг озарится перед всеми вспышкой затаенного огня?
Тогда вы удивитесь — открытию всегда удивляются, человек этот покажется вам особенным и одновременно представится странным, что раньше, в сутолоке насущных забот, вы в нем особенного-то и не примечали.
Я вспоминаю одну из старейших шахт Донбасса — «Дагмару», от которой сейчас остались только отвалы породы, перетлевшие и поросшие ржавым пыреем. Эта шахта была пройдена еще в прошлом столетии, неподалеку от того памятного оврага, где в петровские времена подьячий из Костромы, крестьянский сын Григорий Капустин открыл и добыл первые пуды донецкого угля.
На подземных коммуникациях «Дагмары» трудились лошади — славные, безропотные работяги, у которых шахта отняла все: солнце, и дождь, и ветер, шелест и запахи трав. Были среди них и пугливые новички, и спокойные ветераны, — памятливые, чуткие, осторожные, помнившие каждый поворот ночной подземной дороги, каждую разминовку, стрелку, наклон и подъем.
Славились на весь городок лихие коногоны «Дагмары», люди поминутного смертельного риска и невозмутимого бесстрашия. А среди этих признанных смельчаков нагловато, насмешливо выделялся Васенька Рубашкии: рыжий чуб до скулы, кепчонка на затылке, в зубах — окурок, в руках — гармонь. Он и в наряд являлся с гармонью и лишь перед спуском в шахту отсылал ее доверенным мальчишкой на квартиру.
У Васеньки была кличка — Отпетый, за которую не сердился, только, бывало, усмехнется да небрежно поведет плечом. С грузом ли, порожняком ли мчался он под низкими сводами штрека, пронося свою голову в каких-то сантиметрах от беды, от выступов камня и поперечин крепления, мчался со скоростью поистине отчаянной, и, случалось, с ходу «бурились» вагонетки, срывались с рельсов, выламывая боковую крепь, но в какое-то неуловимое мгновение Васенька, свесившись к барку, успевал отхлестнуть коня и спрыгнуть с вагонетки.
Казалось бы, вопреки всем бедам, притаившимся в подземельях, наперекор всем несчитанным страхам этого угрюмого каменного мира, он оставался живым и невредимым, веселым и нагловатым, не делая секрета, что его увлекала опасность, захватывала будничная, повседневная игра в смерть.
На что же он был горазд, отпетый Васенька, признанный герой поселковых забияк-подростков, постоянно словно бы хмельной от своей гармошки, от ее певучей тоски, — на какие добрые дела был способен, особенно после получки, под выходной?
Обитал он на дальней окраине, за яром, снимал комнатушку у древней старухи и, люди поговаривали, — пил. Тут нечему было удивляться, ведь Отпетый. Правда, во хмелю его не видели, но некоторые странности подмечали, а так как любая странность требует объяснения, стало известно, что мучается Васенька сердечной тайной: где-то, в далеком городе, откуда он прибыл на шахту пять лет назад, осталась его неразделенная любовь. Ей-то ночами напролет он и писал «страдальные» письма, и это подтверждала старушка-хозяйка: писал, перечеркивал, в клочья рвал бумагу, снова садился за столик и снова писал.
Быть может, в несложную легенду, которая постепенно слагалась о лихом коногоне на «Дагмаре», и вы, его знакомый, вставили свое словечко, впрочем, не заметив этого: ведь был он, Васенька, что горошина на ладони, — прост, и у вас уже давно оформилась на него «прикидка».
Поэтому и вы не удивились бы новости, что в наряде предстоит какой-то особый разговор… о Рубашкине.
Тут проявились разные мнения. Одни сочувствовали:
— Жаль парня.
Другие неопределенно возражали:
— Хорош он, сорвиголова!
Третьи рассуждали без предвзятостей:
— Ежели натворил по глупости беды, вот ему на будущее и наука.
Толком, однако, еще никто ничего не знал, а молва — как степной буран, что попадется на пути, то и подхватывает.
В общем, народу собралось в этот наряд неслыханно: явились шахтеры из других смен, даже с других шахт, прибежали шумные ребятишки и встревоженные женщины. Осторожно переползал слушок, будто виновного тут же заберут под стражу.
В углу нарядной, на дощатом помосте, стол был накрыт, как в праздник, красной тканью, и Ванька-братик, непременный член шахткома, длинный, сухощавый, весь из лозунгов и призывов, из кривых графиков и цифр, уже заглядывал в бумажку, готовясь «выдать речь».
Что было загадочно — поведение Васеньки. Один, без друзей, он сидел неподалеку от помоста на подоконнике, чему-то усмехался, тянул папироску и ловко пускал колечки дыма. На него смотрели сочувственно, растерянно, зло, а он как будто забылся, словно бы важным делом занялся. Но когда Ванька-братик, возвысив голос, начал речь, многие приметили: Рубашкин вздрогнул и беспокойно заерзал на подоконнике. Он даже сделал движение рукой, словно пытаясь остановить Ваньку-братика, однако такого заядлого оратора не просто было остановить.
— Шахтеры, друзья-товарищи… братики мои, — начал Иван привычным обращением (его и прозвали «братиком» за это излюбленное слово), — направьте свое внимание на Васеньку Отпетого: вот он сидит на подоконнике, курит, болтает ногой и пускает кольцо величиной с бублик.
Кто-то от дальней двери приказал строгим и сиплым басом:
— А давай-ка его, красавчика, на сцену.
— Красавчика? — переспросил Иван и, то ли смеясь, то ли откашливаясь, затряс плечами. — А ведь и верно — красавчик! Доброе слово и вовремя — что находка! Мы, братики, скажу вам прямо, своей красоты не примечаем. Вопрос не простой — серьезный, и кто же тут, братики, виноват? Она, конечно, виновата — черная сила, проклятая буржуазия, контра, мировой капитал. Как она, братики, шахтера на весь белый свет бесстыдно ославила? А так, что шахтер, мол, есть пропащий забулдыга, неуч немытый, дикарь неграмотный, крот подземельный, лютый матерщинник и раб.
Выпрямившись во весь свой огромный рост, Ванька-братик сумрачно смотрел сверху вниз на плотно сбившуюся толпу шахтеров, видимо, чувствуя, как пробуждается в ней и нарастает обида.
Замурзанный седой усач решительно вскочил с передней скамейки:
— Ты давай про Отпетого, и к лешему твоих буржуев!
Ванька-братик торжественно вскинул руку:
— Ша, дедушка, не бузи. Нынче повестка у нас, дед, особенная, и я от нее ни на вершок не отступлю.
Он прошелся вдоль помоста, остановился, засмотрелся на Рубашкина, а Васенька весь напрягся и притих.
— Тут кто-то тебя, братик, красавчиком назвал, и это сказано было в насмешку. Но ты не обижайся — правдой ведь не задразнишь. А дать бы тебе костюм шевиотовый, белую рубашку, бантик на шею, шляпу, да еще бы чуб, эту бессонницу девичью, сократить — ого, паренек, ты и в самом Париже заприметишься!
В толпе послышалось шипение, сдержанный кашель, смешки, но все понимали, что с такого дальнего захода Братик начинал неспроста, и потому тишина в нарядной стала еще напряженней. Тряхнув головой, он светло, мечтательно улыбнулся:
— А дайте вы нашим девчатам, ну, хотя бы откатчицам-певуньям, бархата, да шелка, да туфельки, да чулочки, — тут любую буржуйку, пускай сто раз румянами, да вазелинами намазанную, будто ветром сдует наша истинная красота.
В дальнем углу, где толпились женщины, пронзительный голос увлеченно пропел:
— Милочек ты славный, верно!
Смех прокатился коротким гулом и сразу же смолк: странное это собрание шло неизведанными путями и чем дальше, тем загадочнее. Даже Рубашкин теперь пребывал в недоумении и растерянно теребил у горла пуговку косоворотки. А Братик продолжал, не скрывая волнения, и в голосе его таилась улыбка:
— Красив человек! Вы только вглядитесь в него поласковей: как он силенкой, смелостью, думами, статью, человек наш рабочий, красив! А душа, братики, душа! Песню ли вечерком запоют на поселке шахтеры — сердце дрогнет; в пляску пустятся — сам не устоишь. И где еще вы таких балалаечников, гитаристов, гармонистов сыщете? А кто их, братики, обучал? Да никто не обучал. Разве что соловушка залетный или жаворонок? Ну, если бы обучали, так тут, в нарядной, — кто знает? — быть может, второй Шаляпин стоит?