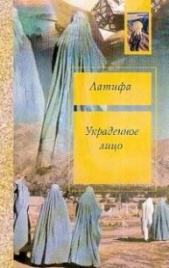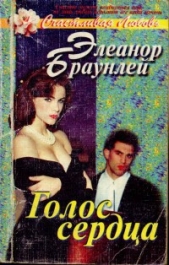Жизнь Нины Камышиной. По ту сторону рва
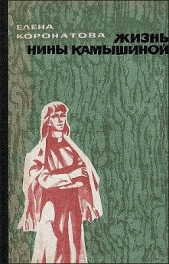
Жизнь Нины Камышиной. По ту сторону рва читать книгу онлайн
В книге «Жизнь Нины Камышиной» оживают перед нами черты трудного времени — первые годы после гражданской войны. Автор прослеживает становление характера юной Нины Камышиной, вышедшей из интеллигентной семьи, далекой от политики и всего, что происходило в стране.
Роман «По ту сторону рва» рассказывает о благородном труде врачей и о драматических судьбах больных.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сергей Андреевич, пряча под усами улыбку, погрозил ей толстым и коротким пальцем. Герман Яворский, он сидел в среднем ряду на первой парте, поставил крышку торчком и на внутренней стороне написал мелом: «Нишкни! Еще начнет спрашивать. Даешь речугу!»
Быстрее всех сообразила оборвать опасно затянувшуюся паузу Галя. Встала и попросила рассказать, как педсовет и вообще наши преподаватели и комсомольская ячейка решили ликвидировать отставание бригадно-лабораторного метода проработки учебного материала.
Делая вид, что слушает, Нина разглядывала Тучина. Весь он как-то лоснится, лоснятся жирные румяные щеки, лысина, борта пиджака. Лоснятся глаза под круглыми очками. Говорят, что жена у него молодая. А он старый. Забавно. Сколько ему лет? Наверное, лет сорок-сорок пять. На парту шлепнулась записка. Нина прочла: «Твои чарующие глаза и губки сводят меня с ума». Она оглянулась. Конечно, это красавчик Леня Косицын. Нет, она не Лелька Кашко, чтобы принимать всерьез такие записочки. Перечеркнула и написала: «Пошло».
— Это еще что за записки? — Тучин стоял около парты. — Дай сюда.
Нина обомлела. Все произошло в одну секунду. Герман Яворский оглушительно чихнул, записка слетела па пол. Герман полез под парту, записка исчезла. Нина как бы со стороны видела свое красное, перепуганное лицо. «Вечно со мной какие-то идиотские истории». Под самыми дверями задребезжал, слава богу, звонок.
— Зайдешь ко мне после уроков, — сказав это, Тучин выкатился из класса.
Последний урок не состоялся. Объявили митинг.
В зале над сценой лозунг: «Наш ответ Чемберлену»…
— Девочки, Чемберлен кто? — спросила Лелька Кашко, усаживаясь возле Германа Яворского.
— Ты меня спроси, — Герман скроил свирепую рожу. — Чемберлен — капиталистическая гидра. Лорд. И на этом основании ненавидит Советский Союз и делает нам гадости.
— Тихо! — провозгласила Мара. — Явление первое: на сцене наш Григорий Шарков, уч. восьмой нормальной.
Значит, комсомольская ячейка поручила митинг открыть Грише Шаркову. Сапожишки на нем стоптанные, брюки залатанные, лохматый.
— Ну и видик у Шаркова! — хохотнула Лелька Кашко.
Ваня Сапожков, самый сильный в группе, а глаза голубые, безмятежные (вот уж кто ни в какие потасовки не ввязывался), оборвал Лельку:
— Болтаешь что попало!
— Полегче, Лелечка, с замечаниями, — не утерпел Герман Яворский, — между прочим, Шарков и Ваня ходят на вокзал подрабатывать. Носильщиками. Ясно, мадам?
Шарков, наверное, чувствовал себя на сцене неловко и растерянно молчал. А зал гудел.
— А ну поддержим: раз… два… три… — скомандовал Яворский.
Хором гаркнули:
— Ти-хо! Ти-хо! Ти-хо!
Водворилась тишина.
— Ребята, — сказал Гриша срывающимся баском, — мы должны, как и все советские граждане, дать свой ответ Чемберлену. Но сначала, ребята, я хотел напомнить… Да, я думаю, никто не забыл… Я, ребята, про казнь Сакко и Ванцетти. Американские капиталисты казнили борцов за свободу. Весь мир протестовал. Но их казнили. Их посадили на электрический стул и сожгли электрическим током.
Физик Сем Семыч, он сидел в первом ряду, поднялся и, повернувшись лицом к залу, тихо, но его все услышали, сказал:
— Почтимте память казненных рабочих-революционеров вставанием.
На сцене, опустив голову и сжав кулаки, стоял Гриша Шарков.
Кажется, синеблузники первыми негромко и торжественно запели:
Нина стояла, как и Гриша, опустив голову и сжав кулаки.
И Нина вспомнила: зимним вечером все сидели за чаем в кухне. (В том году зима стояла особенно суровой, в кухне Камышины спасались от холода.) Протяжно загудели гудки. Это не был веселый гудок расположенного за рощей завода «Маслопром», — гудели и фабрики и паровозы.
Гудки оборвались, и стало страшно тихо. Потом снова загудели. И так три раза. Все сидели за неубранным столом и чего-то ждали. Скрипучие, морозные шаги за окном.
Не снимая полушубка, Коля прошел в кухню.
— Ленина хоронят!
— Что будет с Россией? — сказала бабушка, тяжело поднимаясь из-за стола.
Коля ушел в институт, бабушка — в церковь.
Примчалась Мара и сообщила, что все ученики идут в школу на траурный митинг. Сначала мама никак не хотела отпускать сестер, но потом, закутав их по самые глаза, пошла с ними.
В школьном зале было необычайно тесно. Кто-то из учителей, кажется Сем Семыч, принес маме стул и поставил его около самой сцены. Мама взяла Натку на руки, а Нина с Марой и Катей стали у них за спиной. На сцену поднялся старик. Он долго молчал, а потом произнес:
— Братцы… Ильич… — старик закрыл лицо шапкой, так, ничего больше не сказав, ушел со сцены.
Потом все хором запели: «Вы жертво-о-о-ю пали в борьбе роковой…»
Тогда мама, сбросив на стул свою подбитую облезлым мехом бархатную шубку, шагнула на сцену. Подошла к роялю, подняла крышку и привычным жестом положила руки на клавиши.
Мама играла. Все стоя пели. Тогда Нину впервые охватило чувство причастности к чему-то, что было дорого не только для нее, но и для всех…
После Гриши Шаркова стали выступать другие ребята. Все они клеймили позором Чемберлена. Нина слушала и недоумевала: этот Чемберлен, хоть он и государственный деятель, просто идиот. Как можно не признавать Советскую страну, когда она существует почти десять лет и, безусловно, не исчезнет оттого, что Англия не хочет ее признавать.
Конечно, на сцену вылез Корольков (разве он утерпит) и заявил, что общее собрание членов кустарно-промысловой артели «Красная заря» — «где трудится простой работницей моя мать…» — ввернул Корольков.
— Это он сообщает всем о своем соцпроисхождении, — шепнул Нине Герман Яворский.
— …постановило, — продолжал Корольков, — отчислять в фонд «наш ответ Чемберлену» один процент от своего месячного заработка в течение трех месяцев. Я призываю товарищей школьников внести свой вклад.
«А предложение правильное», — подумала Нина и сказала Маре:
— Можно платный вечер устроить, спектакль, лотерею, буфет, а всю выручку — в фонд.
Лелька Кашко попросила слова.
— Я предлагаю… — и повторила Нинины слова.
Ей аплодировали. Нину немного утешило, что Яворский сказал Лельке Кашко:
— А ты, Кошка, на ходу чужие мысли подхватываешь. Почему не сказала, что это предложение Камышиной?
Так Лельке и надо. Она, кажется, влюблена в Яворского, пусть получает. В общем-то не все ли равно, кто выступил, важно, что ее идею приняли и теперь вся школа как надо ответит лорду Чемберлену.
После митинга Корольков подошел к Нине:
— Камышина, тебя ждет заведующий.
Тучин взглянул на Нину поверх очков и спросил:
— Ты зачем?
«Наврал Корольков. Туча забыл, а я-то дура…»
Но он вспомнил.
— Надеюсь, для тебя не новость, что ты теперь учишься в восьмой группе?
— Не новость, — выдавила Нина, с тоской подумав: «Ну, начинается, сейчас скажет о святом долге юности…»
Сергей Андреевич погладил себя по плешивой круглой голове.
— Святой долг юности…
Нина прикусила губу и уставилась в пол — теперь только надо, не улыбаясь, выслушать все до конца.
В кабинет, бесшумно прикрыв за собой дверь, вошел преподаватель черчения Генрих Эрнестович Шелин. За яркие голубые глаза, словно нарисованные тонкие брови и кудрявую бородку его прозвали Христосиком.
Шелин всегда в полувоенной форме: щегольские сапоги, галифе и нечто среднее между гимнастеркой и модной «толстовкой». Шелин никогда не кричал, но самые отчаянные головорезы его боялись.
Мельком взглянув на Нину, он сказал:
— Признаться, не ожидал от Камышиной подобного легкомыслия. Подобным образом вести себя на вводной беседе заведующего школой…