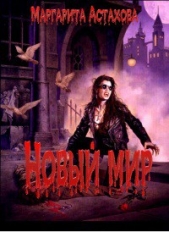Тропы Алтая

Тропы Алтая читать книгу онлайн
«Тропы Алтая» — не обычный роман. Это путешествие, экспедиция. Это история семи человек с их непростыми отношениями, трудной работой и поисками себя. Время экспедиции оборачивается для каждого ее участника временем нового самоопределения. И для Риты Плонской, убежденной, что она со свое красотой не «как все». И для маститого Вершинина, относившегося к жизни как к некой пьесе, где его роль была обозначена — «Вершинин Константин Владимирович. Профессор. Лет шестидесяти». А вот гибнет Онежка, юное и трогательное существо, глупо гибнет и страшно, и с этого момента жизнь каждого из оставшихся членов экспедиции меняется безвозвратно…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вершинин-старший вздохнул и, боясь, что Рязанцев перебьет его, торопливо заговорил снова:
— Покуда мысль не была изощренной, если хотите — была примитивной и не выдумывала человека, землю населяли Отелло и Яго, Давиды и Бруты, а художниками были Шекспиры и Микеланджело. Пришла изощренная мысль и создала Клима Самгина. Вы что же думаете, Клим был глуп, недомыслил до революции? Он ее перемыслил. Вот так же мы все перемыслим самих себя! Человек в своей эволюции, будучи улиткой, обезьяной, пещерным жителем, много раз стоял на краю гибели, но преодолел все, все силы природы, и стал ее царем. А вместе с тем рабом своей мысли. Какой-нибудь маньяк, помыслив час-другой, нажмет кнопку ракеты — тоже величайшее достижение современной мысли, — и дело обойдется без наших с вами похорон. Но все равно, даже в преддверии этой возможности люди не могут понять друг друга. Да что там говорить, под собственным кровом дети нынче — самые таинственные люди для отцов. Вот она, оборотная сторона жизни! Науки! Человека!
Как будто совершенно ничего не случилось, как будто он был преподавателем, а Вершинин — учеником, Рязанцев сказал:
— Помните закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил? По этому закону ни Бонапарт, ни Грозный и не могли иметь в своих руках атомной энергии. Видите, она, наука, объясняет нам наше существование. Не ее вина, что вы не можете или не хотите ее понять!
— Боже мой! — воскликнул Вершинин. — Такой момент, а вы говорите как учебник! Как машина, кибернетическая машина! Есть у вас чувства? Можете ли вы говорить, живой человек, когда умирает другой человек?
— Могу.
— Не верю! Не верю, но жду. Жду!
— Вы кто? — спросил Рязанцев.
— То есть?
— Кем вы считаете себя? Прежде всего?
— «Прежде всего» — очень много в каждом из нас.
— Все-таки?
— Вероятно, научным работником. Ученым. Отцом. Просто человеком.
— Не верю… — сказал Рязанцев тихо. II повторил еще раз: — Ничему не верю!
Не сразу лицо Вершинина замерло. Опустились вздернутые кверху брови, медленно сжался рот. Проступили скулы, а тогда лицо стало неподвижным.
— Так! — вздохнул он. — Так, правильный человек Николай Иванович! Сослуживец! С точки зрения политической — безупречно! Позиция — тоже безупречная: «Утри нос ближнему своему!» И то сказать, для кого таковая позиция не имеет нынче значения?!
Вершинин ушел быстро, нервно зашагал по тротуару.
«А ведь хочет быть человеком! — подумал Рязанцев. — Обязательно хочет быть им! И причем — в полном смысле слова!»
Таким он был, Вершинин-старший: мог послать ко всем чертям Вселенную, а назавтра погрузиться в искренние заботы и хлопоты по должности заведующего лабораторией, доктора географических наук.
Рязанцев этого не мог. Если бы только однажды ему довелось обругать весь мир, если бы сию минуту Рязанцев разуверился в этом мире, он уже никогда больше не обрел бы чувства своей причастности к нему.
Это верно — были вопросы, на которые он не мог ответить. Всегда были…
В Бийске, на пути в Горный Алтай, он зашел в парикмахерскую. С улицы три или четыре ступени вели в полуподвальное, насыщенное одеколоном помещение. Он взял стул и в ожидании очереди сел у распахнутой двери. Смотрел на тротуар, на редких прохожих и на все то, что происходило вдоль нешумной улицы с редкими деревцами по обеим сторонам и с неподвижным дорожным катком посреди разрытой мостовой.
Может быть, из-за того, что смотрел он снизу вверх, Рязанцев показался себе в тот момент ребенком, любопытным ко всему, что он видит, и преисполненным мечтами о предстоящем путешествии.
И тут же вскоре перед ним прошла совсем еще молодая женщина с мальчуганом на руках. Она была в синем рабочем платье, со светлыми непокрытыми волосами, и мальчуган, вороша ручонками эти волосы, твердил одно только слово:
— Мама? Мама?.. Мама? — Должно быть, только одним словом он спрашивал мать обо всем, что видел вокруг себя.
А женщина, торопливо-радостная, отвечала ему всякий раз одним и тем же вопросом:
— Что, деточка? Что, деточка? Что, деточка?
И Рязанцев неожиданно вспомнил себя таким же лепечущим младенцем, который вот так же спрашивал обо всем, что было вокруг него, одним словом: «Мама? Мама?» А мать, точно так же, как эта женщина, отвечала ему: «Что, деточка?»
Мать погибла от тифа в двадцать первом году, в обозе поволжских беженцев, двигавшихся в Сибирь. Рязанцев ее почти не помнил, но даже не это воспоминание поразило его. Он подумал: «Вот с каких пор человек спрашивает! И вот с каких пор на вопрос жизнь отвечает ему тоже вопросом! Ведь эта женщина не отвечает ребенку: «Да, деточка» или «Нет, деточка!» Она спрашивает: «Что, деточка?»
«Конечно, это так — вопросы приходят к людям с молоком матери, — думал Рязанцев, вглядываясь в угловое окно больницы, стараясь представить себе, что за ним происходит сейчас, а в то же время мысленно продолжая спорить с Вершининым и доказывать что-то Лопареву. — Но все равно — дело каждого раз и навсегда выбрать между Исааком Ньютоном и Климом Самгиным. В этом человечество помогает человеку, но ни за кого оно не в состоянии сделать окончательный выбор… По мере развития мышления человек неизбежно будет открывать не только то, что ему помогает жить и мыслить, но и то, что ему мешает. Вероятно, чем больше он будет узнавать, тем труднее ему будет мириться с ничем — со смертью. Труднее и и труднее…»
На его глазах за последние несколько лет умерли профессор Головин, Сеня Свиридов и вот умирала Онежка. И всякий раз смерть близкого человека поражала его своей логикой и неизбежностью. «Ты считаешь свою жизнь абсолютно необходимой, — думал Рязанцев, — в то время как твое рождение — дело совершенно случайное, ты мог родиться, а мог бы и не родиться, мог родиться кем-то другим, женщиной, например, и тогда тебя как такового не было бы. Зато свою смерть ты, конечно, будешь считать нелепым случаем, в то время как она, безусловно, закономернее и логичнее твоего рождения».
Вслед за этим к нему пришла другая мысль: «Вот человек переносит войны, болезни, жертвы, и все ради самой обыкновенной жизни, а когда она наступает — обыкновенная, — не умеет прожить ее. И получается, будто страдания в самом деле — это самое значительное для него».
А затем и еще одна: «Природа создала человека — тончайший инструмент познания окружающего мира, но в такой же мере познавать самого себя не научила. Этому человек должен научиться сам… Сможет ли?»
Из-за гор выплывали облака, еще не проснувшиеся, но уже торопливые. Две-три запоздавшие звезды плыли вместе с ними. Лес на вершинах выбирал себе дневное одеяние из неярких осенних красок пасмурного неба, из приглушенного солнечного света, а сам был ярко-зеленым и синим, а кое-где на склонах, где встречались островки лиственных пород, — красным и лунно-желтым. Лес шумел слегка, прислушиваясь к нарождавшимся дневным ветрам, а ветры уже доносили сыроватый и спелый запах осени.
В тенях облаков и в этих еще дремлющих ветрах долина, по которой были разбросаны заиндевевшие крыши домиков, тоже шевельнулась, и тотчас из-за карниза углового окна больницы появились два воробья.
Они почирикали, похлопали крылышками и уселись на открытую форточку. Может быть, кто-то из больных кормил их здесь крошками, и теперь они настойчиво и недоуменно заглядывали в окно.
Заглянули, как будто пожали плечиками, заглянули снова.
Рязанцев долго смотрел на них, а потом махнул шляпой. Они громко чирикнули и улетели.
Рязанцев посмотрел им вслед и пошел к крыльцу.
На крыльцо вышел доктор. Он был закрыт в белый халат, в белый колпак и в белые туфли. Глаза тоже были прикрыты, и только небольшие рыжеватые усы с проседью и с капельками влаги обратились навстречу Рязанцеву.
Доктор сказал: «Ну, вот…» — и по-воробьиному пожал плечами. Развязал тесемку халата, снова завязал ее, повернулся и ушел обратно.
Чуть погодя появился Вершинин.
— Ужасно, ужасно, — сказал он, отыскивая рукой перекладину крыльца. — Что же? Как же? Свертывать экспедицию?! Ужасно все это! — Отыскав наконец одной рукой перекладину, провел другой по лицу. — Как ужасно… Почему Онежка никому из нас ни слова не сказала о своей болезни? Никому?!