Точка опоры
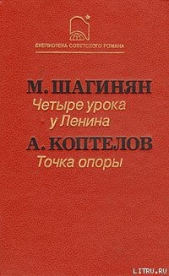
Точка опоры читать книгу онлайн
В книгу включены четвертая часть известной тетралогия М. С. Шагинян «Семья Ульяновых» — «Четыре урока у Ленина» и роман в двух книгах А. Л. Коптелова «Точка опоры» — выдающиеся произведения советской литературы, посвященные жизни и деятельности В. И. Ленина.
Два наших современника, два советских писателя - Мариэтта Шагинян и Афанасий Коптелов,- выходцы из разных слоев общества, люди с различным трудовым и житейским опытом, пройдя большой и сложный путь идейно-эстетических исканий, обратились, каждый по-своему, к ленинской теме, посвятив ей свои основные книги. Эта тема, говорила М.Шагинян, "для того, кто однажды прикоснулся к ней, уже не уходит из нашей творческой работы, она становится как бы темой жизни".
Замысел создания произведений о Ленине был продиктован для обоих художников самой действительностью. Вокруг шли уже невиданно новые, невиданно сложные социальные процессы. И на решающих рубежах истории открывалась современникам сила, ясность революционной мысли В.И.Ленина, энергия его созидательной деятельности.
Афанасий Коптелов - автор нескольких романов, посвященных жизни и деятельности В.И.Ленина. Пафос романа "Точка опоры" - в изображении страстной, непримиримой борьбы Владимира Ильича Ленина за создание марксистской партии в России.
Писатель с подлинно исследовательской глубиной изучил события, факты, письма, документы, связанные с биографией В.И.Ленина, его революционной деятельностью, и создал яркий образ великого вождя революции, продолжателя учения К.Маркса в новых исторических условиях.
В романе убедительно и ярко показаны не только организующая роль В.И.Ленина в подготовке издания "Искры", не только его неустанные заботы о связи редакции с русским рабочим движением, но и работа Владимира Ильича над статьями для "Искры", над проектом Программы партии, над книгой "Что делать?".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Глашурочка!.. Драго… ценность моя! — И вдруг, чтобы не расплакаться от радости, стиснула зубы и уткнулась лбом в грудь дочери.
— Мамуша! — Девушка приподняла голову матери и сдержанно поцеловала ее. — Только без дождика, мамуша. Я же приехала на целый месяц!
— Откуда ты взяла, что я плачу? Просто — неожиданность. Я ведь уже потеряла надежду… — Екатерина Никифоровна сорвала с руки темляк плетки и повесила ее на луку седла. — На месяц, говоришь? Ну, об этом мы еще потолкуем.
— Меня будут ждать.
— Кто же? Интересно бы узнать, хотя бы имечко.
— Друзья.
— Ах, эти!.. А я-то думала… Тебе ведь, Глашенька, двадцать три годка!
— Я помню, мама. И твою поздравительную открытку храню.
— Хотя что я?.. Так вырвалось, нечаянно. Пойдем в дом. — Подымаясь на крыльцо не по-женски твердым шагом, Екатерина Никифоровна позвала: — Агапеюшка!.. Самоварчик бы нам.
Спустя полчаса мать, успевшая умыться и переодеться, разливала чай. Глаше полчашки налила из заварника:
— Ты всегда любила крепкий. А вот Катенька — наоборот… Ты давно ли виделась с сестрой-то? Как она там, одинокая горлинка? Будто в Киеве нет парубков.
— Не до парубков, мама. Время такое…
— Время, сама знаю, неспокойное. А годы-то девичьи идут. И не повторятся. — Екатерина Никифоровна откусила уголок от кусочка сахара, отпила чай из блюдца. — Я не осуждаю, — делайте что надо. Только не забывайте прислушиваться к сердцу.
— Не надо, мама. Лучше расскажи, как тут зиму коротала.
— Как медведица в берлоге. Политики, кончив срок, разъехались. Навещать меня было некому. Только отец Митродор приходил: помог с елкой для деревенских ребятишек. Пришли с родителями. Больше ста человек. Песни с ними пела, чаем поила. А потом опять как в берлоге. Летом мне легче: в заботах дни мелькают, как гуси перелетные. То на Сисим еду, то — на Чибижек. Правда, везде одно огорчение: золото истощилось. Денег едва хватает с рабочими рассчитываться… Пей чай-то. Не студи. И ни о чем не думай. Пусть у тебя голова отдохнет, проветрится за лето.
— За месяц, — напомнила Глаша. — Я не могу…
— А как я тебя отправлю, если золото не намоется? Хоть бы золотник со ста пудов, и то я ожила бы. Всем бы вам помогла. Но не получаем золотника-то, — развела руками мать. — Проживешь до осени, там будет виднее.
— Ой!.. — Глаше снова вспомнился Иван: уже сейчас сердце ноет… Вспомнилось последнее письмо Надежды Константиновны: «Искру» собираются сделать ежемесячной, а финансы у них плохи, нельзя поставить дело так широко, как хотелось бы. Им там нужны деньги, деньги и деньги. Надо хоть чем-нибудь помочь, а она тут, похоже, застрянет. — Я, мамуша, не могу. Понимаешь, не могу, чтобы обо мне худо думали. Денег не будет, так я пешком…
— Пешком ты не пойдешь, — твердо сказала мать. — И загадывать пока не станем. Пей чай.
И вечером, в постели, опять вспомнился Иван: «Не могу иначе…» Какие неотступные слова!..
«Ой, да ведь это же, в самом деле, у Толстого! — Глаша, отпрянув от подушки, села в кровати и приложила пальцы к щекам, вмиг налившимся жаром. — Вронский говорит Анне… В морозную вьюгу… На какой-то станции… Теперь ясно помню: «Я не могу иначе». Неужели Ивану вспомнились эти слова? И он любит… Ой, даже сердце замирает… А вдруг это только совпадение слов? Простое внимание… И больше ничего?..»
Глаша спрыгнула, зажгла свечу и на цыпочках пошла в соседнюю комнату, где одна полка в книжном шкафу была отведена Льву Толстому.
Приехал Алеша, старший сын Окуловых.
Сибирь он покинул шесть лет назад: обострившийся туберкулез заставил его красноярскую гимназию сменить на киевскую. Там он почувствовал себя здоровым и вскоре стал одним из самых деятельных участников гимназического социал-демократического кружка. К той поре все города юга уже клокотали гневом. В Киев слетелись делегаты юношеских кружков из двух десятков городов, и Алешу Окулова избрали председателем съезда. Через день начались провалы. Ему, к счастью, удалось избегнуть ареста. Окончив гимназию, он уехал в Швейцарию: Женева манила его как центр свободной русской политической мысли. Там он прижился, вошел в клуб русской молодежи, учившейся в университете. И в Россию не вернулся бы, если бы не приближался срок выполнения воинской повинности. Он, страдавший близорукостью, надеялся, что его не забреют, и он, сохранив легальность, уедет в Москву. Там попытается поступить в школу Художественного театра.
По вечерам мать и сестра расспрашивали о Швейцарии. Алеша восторженно рассказывал о прогулках на пароходе по Женевскому озеру, о пеших походах по горам, об альпийских лугах, так похожих на полюбившиеся с детства Саянские высокогорья, но случалось как-то так, что всякий раз его рассказ склонялся к знаменитому женевскому россиянину Георгию Плеханову.
— Ты бывал у самого Плеханова?! — всплеснула руками Глаша, когда впервые услышала об этом. — Как тебе, Алеха, повезло!
— А я от политиков слыхала, — заговорила мать, — что Плеханов сильно гордый и высокомерный.
— Может, с гордыми и он гордый. Не знаю. А нас, молодых, принимал просто и приветливо. Часами расспрашивал о родине, о настроении народа. Чувствовалось: натосковался там, в оторванности от революционного движения. И о России ему было интересно знать елико возможно больше. Он даже согласился председательствовать в нашем клубе молодых россиян. Беседовал с нами запросто. Выступал у нас с рефератами. И я бывал у него как свой человек, — рассказывал Алексей без хвастовства. — Часами рылся в его богатейшей библиотеке. Некоторые книги читал тут же у него, а некоторые он позволял брать к себе на квартиру. Советовал, что мне необходимо прочесть. Это было лучше всякого университета.
— Хорошо, что пожил возле таких людей, — сказала мать. — В жизни все может пригодиться.
По утрам заседлывали коней. Первый раз Алексей хотел было помочь Глаше, но она оттолкнула брата:
— Не мешай. Я умею не хуже тебя… — Подтягивая подпругу, прикрикнула на оскалившегося Гнедого: — Не балуй! — Поставив ногу в стремя, легко взметнулась в седло и с гиком понеслась по равнине. — Догоняй, Алеха!..
Иногда они переезжали вброд Тубу и, выбирая пологие склоны, подымались на Ойку. Там Алеша срывал с себя фуражку и, взмахнув руками над простором, кричал:
— Эге-еге-ей!.. У меня, Глашура, на горах душа поет!.. Хочется лететь по-орлиному.
Глаша собирала цветы. Домой всякий раз привозила чуть ли не целый сноп. Сушила в книгах, в горячем песке. Потом раскладывала на картонки, прикрывала стеклом и вешала на стену. Брат любовался ее композициями, а она думала: «Если бы Иван…»
Всем сердцем Глаша рвалась в Москву. Кате в Киев написала:
«У меня настроение такое, такое тяжелое, что ни писать, ни читать, ни вообще что-нибудь делать не хочется. Жизнь наполнена, как выражается Алеша, ароматной пустотой. Одна отрада — поездки на Ойку.
По вечерам долго лежу с закрытыми глазами. Все думаю и думаю. Всякий человек может быть большим на своем месте. Если я вообще могу быть большой, то только там, в той области, где мое прошлое и где будет мое будущее, — у меня одна дорога.
Как бы я хотела уехать в Германию. Может, там была бы более полезной нашим общим друзьям. Но жена Старика пишет, что ждут от меня работы в России. И я чувствую: могла бы развернуться. Да вот застряла здесь…
На Ойке деревья уже одеваются в багрянец. Слов нет, красиво! Но здешняя красота уже набила мне оскомину. Алеша собирается в дорогу, а я, наверно, прокукую до санного пути…»
В последний вечер перед расставанием сидела с братом на скамейке у Тубы. На воде колыхались золотистые отблески зари. Алеша хлопнул сестру по плечу:
— Счастливая ты, Глаха! Твой путь определился. Хоть немножко, да причастна к «Искре». Теперь у них, вероятно, вышел уже шестой номер. Зря ты пятый для меня не сохранила. Мне Георгий Валентинович давал читать только первых два. Я спрашивал, где печатают ее, он помедлил с ответом: «В одном городе… России». Я понял: всем интересующимся без особой надобности нужно отвечать так. А оказывается…


























