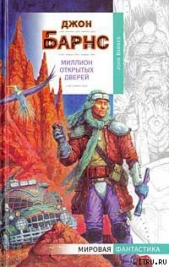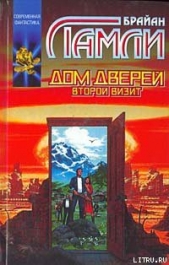Верность
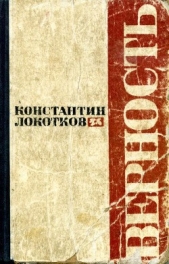
Верность читать книгу онлайн
Повесть о жизни советских людей накануне и в годы Великой отечественной войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он положил указку на стол, достал платок, вытер лоб и, опустив руки, остался в выжидательной позе.
Начали задавать вопросы из всех областей науки, которые обязан был знать инженер.
Аркадий, не торопясь, обдумывая, отвечал на вопросы. Он немного побледнел и стоял неподвижно, очень прямо; только сосредоточенный взгляд потемневших глаз говорил о напряженной работе мысли.
Особенно придирчив был маленький, беспокойный, с широким лицом преподаватель московского института.
Когда Аркадий ответил на все вопросы, он вдруг спросил, зачем-то опять возвращаясь к проекту:
— Идея вашего проекта… э… э… Не можете ли поделиться с нами, почему вы избрали именно эту идею?
— Как? Я не понимаю, простите.
— У вас ведь был большой выбор, — спрашивающий протянул к Аркадию руку. — Вы могли остановиться на определенном оборудовании, изготовляемом промышленностью Америки, Западной Европы, Германии, скажем. Правда, для этого, как известно, нужно золото… Но для хорошего дела, для завода, в золоте вам не откажет государство… Так вот, не можете ли сказать, почему вы не пошли по этому пути?
Может, это было случайностью, но на одну секунду Аркадий отметил в зале лишь одно лицо, застывшее с высоко поднятыми бровями.
«Потому, что я горжусь своим Советским государством», — хотелось ответить Аркадию. Преподаватель-москвич, наверное, это и желал услышать, но Аркадий сказал то же самое, но другими словами, хотя и не все:
— Я использовал в проекте самую передовую технику. В этом главная мысль проекта, и мне кажется, что я обстоятельно и… в достаточной степени, если, боюсь, не больше, используя свои голосовые данные… — Аркадий с чистосердечной откровенностью засмеялся, — защищал свой проект.
Первым захохотал Трунов. Он привалился к беспокойному члену комиссии, крича, перекрывая смех и аплодисменты зала:
— Русскую пословицу знаете? Насчет двух обеден, а?
Москвич хлопал в ладоши, восклицал, смеясь:
— Туговат, туговат я на ухо!
Когда зал утихомирился, председатель комиссии — высокий молодой профессор — хотел подняться.
Но беспокойный член комиссии не унимался, удержал его за руку. Вдруг спросил Аркадия по-немецки:
— В какой район Советского Союза вы желали бы поехать работать?
Аркадий ответил тоже по-немецки:
— Я поеду с одинаковым желанием туда, куда сочтут нужным меня послать.
Преподаватель-москвич засмеялся и опять хлопнул в ладоши:
— Хорошо. Правильно! — И заключил, обращаясь к председателю: — У меня больше нет вопросов.
Председатель поднялся над столом.
— Вы свободны, товарищ Ремизов. После заседания комиссии вам будет объявлена оценка вашей дипломной работы и присуждена квалификация.
Аркадий поклонился и, пройдя в зал, сел рядом с Женей. Та прижалась к нему худеньким и теплым плечом. Два дежурных студента выносили чертежи Ремизова.
Он вышел вместе с Женей, и сразу их обступили друзья.
— Не прикасаться. Инженер! — строго сказал Аркадий.
Прямо и торжественно он пошел к выходу, и Женя, уцепившись за его рукав, быстренько семенила рядом, а вокруг шумели студенты. И только когда захлопнулась тяжелая дверь, Аркадий остановился, повел вокруг выпуклыми добрыми глазами, сказал глуховато и покорно:
— Ну, черт с вами, качайте!
Расхохотался и так стиснул голову Жени, что та испуганно пискнула.
В эти последние напряженные дни учебного года, как и в обычное время, было достаточно неотложных дел, требовавших обсуждения коллективом. Но никто не смел нарушить издавна заведенный и уважаемый всеми порядок, о котором напоминали таблички на дверях аудиторий: «Тихо. Идут экзамены!» Какими бы нетерпеливыми ни были руководители вузовских организаций, они не могли не понимать, что самое важное сейчас — экзамены, и все дела, не связанные с ними, должны быть перенесены на время, когда студенты вернутся с каникул.
Но существовали, оказывается, посторонние причины, которые заставили руководителей института нарушить старый порядок. Это нарушение сначала не всем показалось оправданным. «Неужели уж, — думали некоторые, — какой-то Недосекин, вредные и невежественные откровения которого давно разоблачены, Недосекин, понятный всем («Король-то оказался голым!» — смеялись в институте), неужели он опять требует к себе внимания общественности и настолько срочного, что понадобилось внеочередное общее институтское собрание? Ну, напечатал в заграничном журнале критику работ профессора Трунова — что же из этого? Ведь это сделал Недосекин — нечему удивляться, тем более, что профессору Трунову ни жарко и ни холодно от его критики: варочный аппарат действует, по всем статьям он забил заграничные. Давайте отложим Недосекина и его неблаговидный поступок на послеканикулярное время!»
Так могли думать люди легкомысленные и равнодушные. Если бы все разделяли их мнение, вряд ли общее институтское собрание было бы столь бурным и многолюдным.
Никто не назвал это собрание судом, но это был суд, потому что присутствовали здесь и обвинители, и подсудимый, и налицо был состав преступления: измена интересам Родины.
В человеке, что стоял на возвышении перед сурово замкнувшимся залом, трудно было узнать Недосекина, которого привыкли видеть в институте подчеркнуто спокойным, чуть пренебрежительным, полным сознания собственного достоинства. Теперь, точно приколотый невидимой булавкой к кафедре, он был суетливо подвижен, голос лился вкрадчиво, заискивающе-вежливо. И лишь изредка проскальзывало в нем старое: презрительная нотка.
— Мы говорим об интересах человечества, об интернационализме. Как же тогда понять обвинение, брошенное мне, — он с театральным ужасом поднял руки над головой, — измена интересам Родины! Нет, нет, я решительно отвергаю это обвинение! Это плод досужих, ортодоксальных умов, людей, которые видят только факт, а не его психологию. Я действовал в интересах мировой науки, а ее нельзя привязать к какому-либо географическому месту. У науки родина — вся земля! Все должны пользоваться ее дарами: русские, немцы, греки, испанцы; в этом и заключается — кто не согласится со мной! — высшая гуманность, за которую мы боремся!
Он помолчал немного, полузакрыв глаза, в покорной и сожалеющей позе, точно давал понять, насколько тяжела миссия, возложенная на него, — защита высшей гуманности…
— Любовь, добрые чувства к человеку, облегчение его жизни средствами науки, разве мы об этом не говорим и не пишем постоянно и во всеуслышание, разве не в этом наша человеческая мораль, товарищи?..
Последнее слово он произнес сорванным голосом и коротко глянул в зал. Удовлетворенно качнул головой, как бы отбрасывая прочь сомнения, — нет, нет, высшая гуманность не будет оскорблена! Энергично шевельнулся, чуть подался вперед, желая, видимо, продолжать свою речь в прежнем решительном тоне, но его перебил иронический голос директора института, председателя собрания:
— Значит, вы поборник высшей, надклассовой морали? Но почему же тогда в своем стремлении облегчить участь человечества вы решили начать с облегчения участи империализма?
— Как так? — не оборачиваясь, с испуганной и сожалеющей улыбкой смотря в зал, точно приглашая сидящих в нем оценить непозволительность иронии директора, спросил Недосекин.
Директор, оглянувшись на Ванина, сидящего рядом, продолжал:
— Очень просто. Вы продали изобретение Трунова империализму. Я уже не говорю, что сам факт шельмования в иностранной прессе передового советского ученого вами, доцент Недосекин, вызывает наше законное возмущение… Но вы пошли дальше. Вы совершили прямое предательство. Под видом критики услужливо выложили все теоретические и расчетные основы профессора Трунова.
Гул прокатился по залу, все взгляды обратились к Трунову, тоже сидящему за столом. Трунов успокаивающе помахал рукой: дескать, скажу об этом, скажу! Гул улегся, готовый возникнуть вновь каждую минуту: на лицах всех сидящих в зале осталось жесткое выражение досады и огорчения.