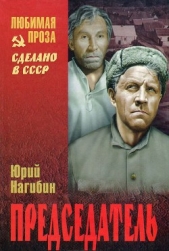Женитьба Элли Оде (сборник рассказов)
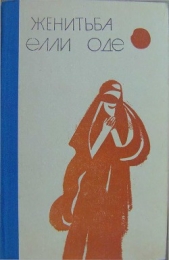
Женитьба Элли Оде (сборник рассказов) читать книгу онлайн
Сборник составляют рассказы туркменских писателей: Н. Сарыханова, Б. Пурлиева, А. Каушутова, Н. Джумаева и др.
Тематика их разнообразна: прошлое и настоящее туркменского природа, его борьба за счастье и мир, труд на благо Родины. Поэтичные и эмоциональные произведения авторов сочетают в себе тонкое внимание к душевной жизни человека, глубину психологического анализа и остроту сюжета.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Пришли, — сказала Фроська у своей хаты, — проходи, Ганс, — и добавила что-то непонятное для Савки, по-немецки.
Немец помялся малость, старательно обстучал ногу об ногу и бочком — мимо Савки и Фроськи — заскрипел писклявыми половицами в сенях.
— На кой ты его? — сощурился Савка.
— Пусть сидит, не помешает, — сказала Фроська. — Ноги обей, не тащи снег в горницу.
Савка примостил свои вёдра возле крылечка, обмахнул веником валенки.
Ганс уже сидел у стола, потирал руки, улыбался, помаргивал.
— Гутен таг, — буркнул Савка, входя.
— Таг… таг… — заторопился немец и понёс что-то длинное и непонятное, хотя мог, змей, при нужде шпрехать по-русски.
— Будет кагагакать-то, — сказал Савка. — Чего лупетки таращишь? Маркса, небось, не читал?
Немец снова залопотал — горячо говорил, даже руками что-то показывал, но Савка не слушал, у него память была на отдельные немецкие слова, особенно — на цифры, остальное его не интересовало.
Он прошёлся по комнате, потрогал на этажерке фарфоровую пастушку и стойкого оловянного солдатика, выдернул книжку. Это оказался учебник геометрии. Он машинально перевернул несколько страниц, на какой-то неуловимый миг окунувшись памятью в школьную благодать.
— Тонь!.. — начал было он и осёкся.
— Чего ты? — высунулась из кухни Фроська. Она была пахучая, румяная, как свеженькая сдобная булка. И руки были гладкие, розовые, припорошенные мукой. Прядь рыжих волос выбилась из-под косынки, она сдувала её уголком рта. Савка смотрел на эти руки, потом увидел, что немец тоже смотрит, и насупился:
— Пойду я, Фрось.
— А то посиди.
Савка потряс головой:
— Дед меня небось вовсю костерит. Да и дело есть.
— К Тоне спешишь? — ревниво спросила она.
— Будет тебе в дурочку играть, — беззлобно ска-вал Савка. — Провожай, что ли?
Как была, в лёгоньком застиранном платьице, она вышла за ним на крыльцо.
— На, погляди, что там Ганс мой наплёл, — и сунула Савке в карман сложенный тетрадный листок.
— Поглядим, — пообещал Савка.
Вёдра уже подёрнулись зеленоватой корочкой льда, удобнее нести будет.
— Ты вот что, — помолчав, попросил Савка, — ты бы всё-таки подальше от своего фрица.
— Славочка, так ведь он же полезный для нас человек! — воскликнула Фроська.
— Пользы с него, что с козла молока, — сказал Савка. — А тебя не шутейно бабы могут в «немецкие овчарки» вписать. С какой радости?
— Радости, конечно, мало, — согласилась Фроська. — Ладно, придумаем что-нибудь. Ради тебя придумаем.
— При чём я-то?
— А при том, дружочек, что неосторожный ты. Ляпаешь, что в голову взбредёт. Он какой ни есть фриц, а всё же начальником поселковой комендатуры считается. Прищучит тебя когда-нибудь за твой язык зловредный.
— Ну да! Вашему б теляти да волка поймати. Из него комендант, как из твоего бобика ворошиловский стрелок. Его даже полицаи в грош не ставят.
— Не скажи. Сама видела, как он Федьку по роже стукнул за какую-то его «реквизицию». У того аж кубанка с головы слетела.
— Жалко, что не голова, — подосадовал Савка, — А я думал — кто-то из дружков ему поднёс по пьяному делу. Да и врёшь ты, поди, выгораживаешь своего Ганса.
Фроська, обняв себя руками за плечи, поёживалась в своём сквозном платьице.
— С какой стати мне его выгораживать. Я ж не в него влюблённая, а в тебя.
Савка хмыкнул и взялся за дужки вёдер.
В избе уже стоял жилой дух. Протоплено и жареным пахнет. Дед опять сидел на печи, отогревался.
— Ты, что ли, Савелий? — спросил он.
— Понтий Пилатов, — сказал Савка, цепляя пальто на кособокую вешалку возле хрипло, по-стариковски, тикающих ходиков. Всё никак руки не доходили поправить вешалку.
— Тебя только за смертью посылать, — заворчал дед. — На загнетке тама стоит — ешь!
— Ковырнул-таки свой загашник, — довольно усмехнулся Савка и сел за стол. Есть хотелось так, что скулы сводило.
— Для тебя, что ли, охламон, — сказал дед. — Тоня приходила.
Савка укололся губой о вилку. Тоне сюда приходить никак не следовало.
— Тоня?! Чего ж ты молчал?
— Я не молчу. Пришла и ушла. А ты шастаешь. С Фроськой своей шуры-муры…
— Дед! — взмолился Савка. — Ну как ты можешь сейчас такие слова говорить, дед? Ты же старый умный человек! Что сказала Тоня?
— А ничего не сказала. Пришла и ушла. «Не давайте святыни псам и не мечите бисер перед свиньями, да не попрут его ногами своими и, обратившись, не растерзают вас…»
— Доведёшь ты меня до греха! — повысил голос Савка. — Спалю к чёрту в печке твою библию!
— Я те спалю, — сказал дед. — Я тя, родимца, в упор не вижу. Вались к Фроське и разевай тама пасть. Тебя зрить хотела Тоня. Надо думать, по сёлам они пойдут, меняться…
— Как — меняться? Она же должна…
Он умолк, вспомнив, что ещё не успел поглядеть Фроськину тайнопись, а дед пояснил:
— Все хрещенные нынче странниками стали — по сёлам с котомками барахло на провиянт меняют. Не у каждого такой запасливый дед, как у тебя — в первую мировую каптенармусом служил.
— Каптенардоусы-скотернамусы… — пробормотал Савка, ковыряя вилкой в сковородке. — Ничего передать не велела?
— Невесёлая была, как бы с испугу, — не сразу отозвался дед. — Шурка, сказала, знает. А чего знает — леший вас разберёт, моё дело маленькое; привёз шкурлатам воды — да на печку. «И ты, Капернаум, до неба вознёсшийся, до ада низринешься», — пробубнил он евангельскую цитату и вдруг тоненько закричал: — Гляди мне, Савелий! Я энтих делов не знаю, а только не моги меня, старого, одного кинуть!
— Куда ж я без тебя! — Савка засмеялся. — Ты у меня пуп земли.
— Вот и поженились бы, — неожиданно резюмировал дед, — жили бы со мной рядышком. Чего над девкой мудруешь?
Савка снова засмеялся — настолько нелепым показалось ему дедово предложение.
— Так она молодая. И я ещё совсем молодой.
— Самогонку хлестать не молодой.
— Плохо ты, дедушка, с печки своей разглядываешь. Погоди, придёт время, я тебе очки настоящие куплю. Тогда ты всё увидишь, как надо.
— Очков тебе на причинное место! — сказал дед. — Лучше вашего разглядаю. На мосту был?
— Не видал я того моста!
— А ты сходи. Может, и увидишь чего. Шкурлаты там музюкались. Важный какой-то был, пузатый, прах его забери. И христопродавцев энтих, с треугольниками на рукавах, нагнали видимо-невидимо. Должно, облаживают мост.
Савка усомнился.
— Путаешь ты, дед. Зачем им взорванный мост чинить, если у них свой, понтонный, исправно действует.
— Потонный, он потому и называется так, что потонуть враз может. В разлив вот крыги пойдут — и конец ему, потонному. А им, небось, припекает уже драпать собираются.
Дед закашлялся. Ядовитым духом самосада потянуло по комнате. Савка подождал немного и сказал:
— Глазастый ты, однако, Прохор Лукич… Пойду, пройдусь немного.
— К Фроське опять?
— В город сбегаю. А ты бы мне, слышь, Лукич, — подмётки удружил бы?
— Каки таки подмётки! — всполошился дед. — Игде ты их видал?
— Там, где ты узелок хоронишь.
— Савка! — испугался дед. — Они спиртовые! Разве такие подмётки нынче найдёшь! С какой надобности они тебе истребовалиеь?
— Фроська босыми пятками по снегу топает — подшил бы ей валенки.
Дед даже задохнулся от негодования и долго перхал на печке. Потом сполз, отплевался в лохань, погрозил костлявым коричневым пальцем.
— И думать не моги! Ах ты, шалава! Да она… — и снова закашлялся, бурча невнятное.
— Отплюйся, дедушка, — посоветовал Савка, — а то ж всё одно не разберу, о чём ты речь держишь. Гляди, аж зашёлся весь. Жалко подмёток — ну и не надо, не изводи ты себя.
Дед не склонен был на мировую и махал рукой: погоди, мол, сейчас скажу. Но тут в сенях забрякали дверной щеколдой, и дед сразу перестал кашлять. Савка сунулся к обмёрзлому оконцу, но не видать было ничего, одна муть ледяная. Тогда он посмотрел на деда, а тот затравленно — на него. Ни слова не было произнесено, но какая-то невидимая ниточка возникла, соединяя деда и внука в единое целое тем глубоким внутренним пониманием, которого им до этого мгновения как будто недоставало.