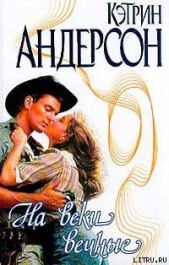Валдаевы
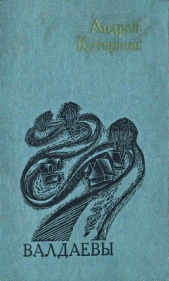
Валдаевы читать книгу онлайн
Новый роман заслуженного писателя Мордовской республики Андрея Куторкина представляет собой социально-историческое художественное полотно жизни мордовской деревни на рубеже прошлого и нынешнего столетий. Целая галерея выразительных образов крестьян и революционной интеллигенции выписана автором достоверно и впечатляюще, а события воссозданы зримо, со множеством ярких бытовых деталей.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Шагай смелее, милый, — шутливо напутствовал его Николай Петрович. — Смотри, насколько этот мир интереснее твоего темного угла… А теперь, товарищи, выберите старосту кружка.
— Валдаев, послужи народу, — предложил Варфоломей Будилов.
Никто не возразил против, и Гурьян стал старостой.
Забот у Гурьяна прибавилось.
Надо было доставать нелегальную литературу, следить, чтобы каждый из товарищей вовремя прочел ту или иную книгу. Кружок рос от занятия к занятию. Начали изучать «Капитал» Маркса. Каждая глава, каждая страница была подобна крепости, которую надо брать приступом. Впрочем, если бы не Волжанин, многие, наверное, махнули бы рукой на учебу в кружке; но наставник умел заинтересовать рабочих — кратко и в то же время понятно объяснял он сложные вопросы политической экономии, увязывая их с тем насущным и каждодневным, чем жили кружковцы.
Прошел год. Неожиданно Николая Петровича сменил другой молодой человек. Студент. Он сказал, что Волжанин сейчас очень занят. А девятого декабря кружковцы узнали, что Волжанин и его ближайшие товарищи по «Союзу борьбы» арестованы.
Молча возвращались поздно вечером Варфоломей Будилов и Гурьян домой после занятий в кружке, — тяготило известие об аресте товарищей. И когда прощались, Варфоломей крепко пожал руку Гурьяну:
— Не трусишь?
— Чего? — не понял Гурьян.
— Ну… Арестовали многих. И нас могут. В любое время.
— Трем смертям не бывать, а одной не миновать.
— До смерти, браток, далеко, а до каторги — близко.
— Черта с два меня там удержат. Сбегу! Чего бояться? Дело наше — правое. А за правое дело страдать — значит, человеком быть.
Оставшиеся на свободе члены «Союза» наладили выпуск листовок: то здесь, то там в заводских цехах появлялись прокламации. Сложно было распространять листовки, того и гляди угодишь в жандармские руки, но Гурьян и Варфоломей каждый раз придумывали какой-нибудь новый «фокус», чтобы обмануть сыщиков.
В январе ударили морозы. Густа была утренняя темнота, когда Гурьян смешался с толпой работного люда, спешащего к заводским корпусам. Возле завода, около ворот, сидела старушка, укутанная, как матрешка, в сорок одежек, — торговала ливером. Грела руки над ведерным чугуном и распевала, покачиваясь из стороны в сторону:
Гурьян задержался возле нее, сунул руку в карман, ища мелкие деньги, — он не успел позавтракать, и теперь его аппетит раздразнил запах горячего ливера.
— А ты, почтенная, успела глотнуть чуть свет.
— Язык малость подмазала, — засмеялась старушка.
— Дай мне ливеру на семишник.
Сняв крышку с чугуна, который был закутан в засаленную телогрейку, старушка достала два куска печенки с добрый кулак величиной каждый и сунула Гурьяну.
— Заверни, — попросил тот.
— Во что прикажешь? А?
— В бумагу.
— А ты мне ее сперва дай.
— А что? Приволоку, если тебе нужна.
— Когда?
— Да хоть завтра утром.
— Спасибо тебе, сударь. Уж я тебе самые пригожие кусочки оставлять буду.
На другой день Гурьян принес торговке бумагу, показал, как лучше заворачивать в нее ливер.
— Подкладывай, бабуля, чистой стороной внутрь, исписанной — наружу.
Торговка положила возле себя стопку листков так, чтобы удобнее было пользоваться, и начала торговать. И сама диву давалась: никогда еще так удачно не торговала, как в этот день. Казалось, будто только из-за бумаги и берут люди ливер. Но на другое утро, едва села на привычное место, к ней подъехали двое полицейских, забрали вместе с товаром и бумагой в участок, где ее долго допрашивал пристав, — высокий, худой, с желтым, точно восковым, лицом.
— Сознайся, карга, где листовки взяла?
— Добрый человек дал.
— По-твоему, он добрый? Да по таким петля давно плачет!.. Кто он такой?
— Откуда мне знать? Тыщу человек каждый день мимо проходят. Разве всех запомнишь в лицо? Может, не он, а она была…
— Она?
— А может, и он — не помню.
— Не забыла еще, как саму-то звать?
— Фетинья.
— По отцу?
— Фирсовна. А фамилия моя — Сыромятникова.
— Сколько лет?
— Шестьдесят восьмой годок доживаю.
— Где проживаешь?
— Дома.
— Я у тебя адрес спрашиваю, мымра!
— А ты, сударь, не кричи: я не глухая.
— Отвечай!
— Обводной переулок, нумер тридцать девять. Домишко мой собственный. Муж, царствие ему небесное, купил…
В конце допроса пристав распорядился посадить старуху в арестантскую. Освободили ее только через неделю — «за неимением улик».
Рассерженная пришла она домой, но словно помолодевшая. Постояльца Любима Быстрова отправила в лавку за «мерзавчиком», а сама принялась наводить в комнатах порядок. Как раз в это время и постучался Гурьян.
— А-а! Явился! — Хозяйка признала в нем своего «благодетеля». — Чего уставился — не признаешь? — Она подбоченилась, расставив руки на бедрах. — Заходи, не съем… Ну, здравствуй! Хорошую бумагу ты мне подсунул — неделю из-за нее в участке сидела. Ладно уж, не красней, я не серчаю. К слову тебя ругаю… Спрашивали меня, кто дал мне сурьезные листочки: не сказала.
— Прости меня, Фетинья Фирсовна.
— Больно скор — прости. Молодой еще, неразумный… В другой раз еще принеси такой обертки… Народ читает, берет, значит, правда в листках написана.
— Неужто не надоело в кутузке-то?
— Как не надоело… Насмотрелась в арестантской на вашего брата. Надоть — на царя замахиваетесь!.. За народ заступаетесь. Думаю, правильные вы люди. И муж мой правильный был… У Путилова вальцовщиком работал. В засаленной одежонке на раскаленную болванку упал. Сгорел. Долго, слышь, кричал и огненным столбом по мастерской бегал. Свалился замертво… Глянула на него, голубчика, на мертвого, обожженного — мороз по коже пошел…
Как ни ловки были на выдумку Гурьян и Варфоломей, распространяя листовки, но все же попались в ловушку: жандармы, выходит, тоже не дремали, выслеживая их не один день.
Ночь выдалась теплая, словно не январская. Густой и вязкий туман висел над городом, с крыш звонко падала прямо-таки весенняя капель: в двух-трех шагах не видно ни зги. Это и погубило друзей: слишком понадеялись они на столичную мглу.
Шли вдоль заборов, оставляя позади белые печати листовок. Ни души. Осмелели. Даже наклеили прокламации на фонарных столбах. Потом снова пошли вдоль забора. Варфоломей мазал крахмальным клейстером, а Гурьян наклеивал. И когда пришлепывал к доске забора очередную листовку, почувствовал, что руки проваливаются и сам он падает во двор. Услышал над собой злорадный голос:
— Ага-ааа, по-па-ли-иии-ись!
Цепкие руки подхватили его, скрутили, будто железными клещами сжали с боков, — ни дохнуть, ни охнуть. Варфоломей пытался было бежать, но его догнали, отобрали ведерко с клейстером, листовки — вещественное доказательство.
— Хорошенькую ловушку мы вам уготовили, голубчики, — злорадствовал переодетый жандарм. — То-то же! — И так же злорадно пропел:
В арестантской, куда их посадили, они увидели еще одного кружковца, токаря с Путиловского. Он невесело пошутил:
— И вас, значит, спеленали… Это плохо. Знать, у жандармов есть список нашей группы. На допросе следователь у меня спрашивал про вас: кто, мол, такие, где работают. Я, конечно, сказал, что не слыхал про таких и в глаза не видел. Но он не поверил…
За решеткой тюремной камеры промелькнула весна, пролетело лето, снова запорошил снег — все это время велось следствие. В марте суд и приговор: выслать в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции на три года каждого. Друзья написали прошение, чтобы перед высылкой им предоставили возможность сходить домой. Им разрешили, отрядив с ними двух конвойных.