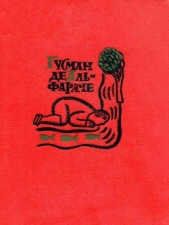Год жизни

Год жизни читать книгу онлайн
Сибирь во многом определяет тематику произведений Вячеслава Тычинина. Место действия его романа "Год жизни" - один из сибирских золотых приисков, время действия - первые послевоенные годы. Роман свидетельствует о чуткости писателя к явлениям реальной действительности, о его гражданском темпераменте, о хорошем знании производственных и бытовых условий, характерных для наших золотодобывающих приисков. В.Тычинин тонко чувствует народную речь. Это придает языку его романа ясность, выразительность, живость.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Норкин не слышал по радио долгосрочного прогноза погоды, однако не захотел выказать свою неосведомленность.
— Вообще будут низкие температуры,— солидно подтвердил парторг.— Но насчет шестидесяти двух я лично сомневаюсь.
— И еще толкуют,— продолжал мастер,— будто к нам циклон идет с Тихого океана. Деревья с корнем выворачивает, крыши рвет. Что будем делать? Вот погибель-то!
На это Норкин затруднился ответить и предпочел промолчать. Упираясь в его плечо пухлым животом, парикмахер усердно трудился. Машинка стрекотала. Срезанные волосы падали на простыню. Закончив стрижку, мастер взбил мыльную пену в стаканчике и вмиг покрыл белыми хлопьями лицо Норкина. Оттягивая кожу, до глянца выбрил Норкина, но поправить щеточку усов не успел. Прибежал запыхавшийся посыльный:
— Иди в контору, Игнат Петрович требует. Побреешь его.
Мастер заколебался было с бритвой в руке. Но Норкин сам поторопил его:
— Ладно, обойдусь пока. Иди, не задерживайся.
Мастер привычно уложил инструмент в чемоданчик
и вышел. Следом за ним, недовольно ворча, потянулись горняки. Человек пять-шесть успело набиться в парикмахерскую. Очередь растаяла: все знали, что Крутов бреется подолгу.
Жил Норкин недалеко от конторы. Поднявшись на крылечко своего дома, он потянул тугую набухшую дверь. В прихожей было темно, и Норкин ударился обо что-то коленом, зашипел от боли. Марфа Никаноровна была дома.
— Куда лезешь в своих копытах? — прикрикнула она на мужа.— Снимай сейчас же, надевай тапочки.
— Сию минуту, Марочка,— пролепетал Норкин, послушно стаскивая валенки.
Накрывая на стол, жена подозрительно потянула носом воздух.
— В честь чего надушился? Или заглянул к какой-нибудь? — насмешливо спросила Марфа Никаноровна.
— Что ты! Это я в парикмахерскую зашел побриться. Меня Спиридоныч освежил. Смотри, и затылок подстрижен, и виски,— трусливо ответил Леонид Фомич.
Взгляд строгой супруги смягчился. Доказательства правдивости мужа были налицо.
У Марфы Никаноровны имелась одна странность. Она ревновала мужа с первого дня замужества до сих пор. Это было тем более необъяснимо, что Норкин никогда не подавал никаких поводов к ревности, ранее, видимо, из-за неспособности к амурным проказам, теперь тем более, по причине солидного возраста.
Раз только, лет восемь тому назад, Леонид Фомич возвратился с курорта необыкновенно загорелым, что изобличало частое пребывание на пляже, в пестром канареечном галстуке, и все время порывался исполнить один и тот же куплет, прищелкивая пальцами. Но дальше «Ласки их любим мы... туру-ля-ля-ляля, но изменя-а-аю сам раньше я!» дело не пошло за полным отсутствием вокальных данных. Тем не менее и это легкомысленное пение повлекло за собой самые пагубные последствия. Марфа Никаноровна отлучила новоявленного герцога от супружеского ложа. Целую декаду до конца годового отчета Леонид Фомич спал в конторе на столе. Лишь по истечении этого времени примерным поведением и кротостью он снискал себе прощение...
Ужин прошел в молчании. Норкин сосредоточенно жевал, двигая нижней челюстью несколько вбок. Марфа Никаноровна подкладывала на тарелку:
— Ешь.
— Я уже сыт, спасибо.
— Ешь! Кому говорю? Чтоб ночью не шарил у меня по кастрюлям!
Леонид Фомич со вздохом принялся за третий кусок пирога с рыбой, которую терпеть не мог.
После ужина Марфа Никаноровна начала мыть посуду, а Леонид Фомич придвинул к себе лист бумаги и погрузился в какие-то вычисления. В полной тишине перо громко скрипело по бумаге. Неяркий свет керосиновой лампы-молнии озарял комнату. Светлые блики играли на никелированных дугах кровати, зеркале, врезанном в шифоньер кустарной работы, на граненом подстаканнике с пучком разноцветного ковыля. Черный квадрат окна был украшен ледяной лилией.
— Знаешь, сколько мне осталось до пенсии? — оторвался Норкин от своих вычислений.— Год, три месяца и шестнадцать дней. Получу пенсию, и сразу же уедем.
— У тебя только деньги на уме,— иронически отозвалась Марфа Никаноровна.— А я никуда не хочу уезжать, обжилась тут. Да и то сказать, сколько за эти три года нашими женщинами сделано! Если б не жен-совет, разве вы с Крутовым построили б больницу? А библиотека? Кто ее собрал, как не мы? Вы вон с Крутовым жильем никак не займетесь. Морозите народ в бараках. Нас, что ли, ждете? Ладно, хоть Шатров тормошить вас стал, а то б вы совсем закисли.
— Ну, Шатров, Шатров...— недовольно пробурчал Леонид Фомич,— бузотер он, Шатров.
— Сами вы бузотеры,— неожиданно вспыхнула Марфа Никаноровна,— болтаете только на собраниях, клянетесь, а Шатров, тот дело делает. «Мобилизовать людей... Поднять горняков на безусловное выполнение государственного плана... Потребовать от каждого... Выполнить приказ начальника прииска...» — очень похоже передразнила мужа Марфа Никаноровна, продолжая возить сальной мочалкой по тарелке.— «Приказ...» Тебя и так уже в народе зовут «крутовский винтик». А ведь ты парторг прииска, люди от тебя совета ждут, помощи, а иногда и защиты. Ох, Леонид, провалят тебя коммунисты на первых же выборах. Попомни мое слово, провалят. А выберут того же Шатрова.
— Шатров кандидат,— огрызнулся Леонид Фомич.—По Уставу партии не положено.
— Разве что кандидат, нельзя по Уставу. Тогда Арсланидзе выберут. Только не тебя. Это ж надо додуматься— в кабинет к начальнику прииска перебраться! Да разве человек пойдет туда наедине поговорить, по душам, мыслями поделиться, может быть, на того же Крутова пожаловаться! Он ведь у многих в печенках сидит...
— Кому не терпится, могут в райком на Крутова жалобы писать. Никому не заказано. А что я тут буду кляузы разбирать? Парторг-то я парторг, а по должности всего-навсего начальник планового отдела. Не велика шишка. Меня самого Крутов может так защемить, что небо с овчинку покажется. Знаешь, у него в Атарене связи какие!
Норкин так разволновался, что смял в комок бумагу со своими выкладками и швырнул ее в угол.
— Не бесись. За свою шкуру трясешься? За двух поросят готов пятки лизать? А ведь молодым хорохорился, сладко пел: «Не пожалею сил для блага родины». Не пожалел... Больно скоро увял. Ведь до Цека высоко, до райкома далеко. Здесь надо Крутова выпрямлять, на месте, своей парторганизацией. А ты к нему в масть прилаживаешься.
— Да будет тебе, Марочка! — взмолился Леонид Фомич.— Что ты за меня сегодня взялась?
Марфа Никаноровна безнадежно махнула рукой и ничего не ответила. Убрав посуду в кухонный шкафчик, она взяла старую рубашку мужа — залатать воротничок. Леонид Фомич походил по комнате, потом взял журнал. Предстояло подготовить политическую информацию о милитаризации Западной Германии.
Откусывая нитку еще крепкими зубами, Марфа Никаноровна высоко поднимала черные сросшиеся брови, и все ее одутловатое, тронутое желтизной лицо принимало удивленное выражение. Просторное коричневое платье скрадывало формы крупного тела, но не могло скрыть мужской размах плеч. Рядом с женой Леонид Фомич выглядел особенно щуплым.
— На, горе мое... Завтра наденешь.— Марфа Никаноровна протянула мужу починенную рубашку.— Будешь спать ложиться, не забудь дров подбросить. Мороз. К утру все выстудит.
— А ты куда, Марочка?
— У меня сегодня заседание женсовета. Вернусь поздно. Не жди.
5
Закатное солнце, прочертив дугу над горизонтом, наткнулось на заостренную верхушку черной лиственницы, повисло на ней, мягкое, сплющенное, как яичный желток, и, проколотое, истекло кровью, которая залила небосклон. Подрумяненные снизу облачные громады тихо приплыли отовсюду, столпились у заката, словно греясь в его последнем накале. Зеленовато-синее от стужи небо поднялось выше, распахнулось просторнее.
В скучном безмолвии нахохлились худые деревья по склонам распадка. Зарозовели укутанные снегом крыши приисковых домиков и сугробы на улицах поселка. Сверкнули багрянцем стекла окон.
В этот вечерний час к крыльцу конторы и подкатил автомобиль. Из-под пробки радиатора заструился парок, мотор умолк. Сиротка оторвал руки от баранки, поднял вверх, до хруста в суставах потянулся, выгнулся всем занемевшим от долгой езды телом. Галган вылез из кабины, осторожно принял с сиденья большой картонный ящик.