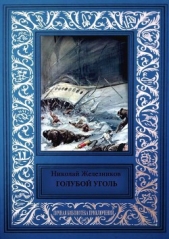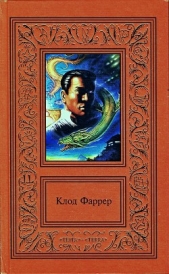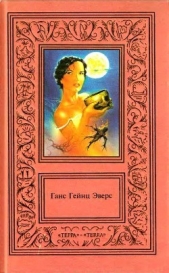Сочинения в 2 т. Том 1

Сочинения в 2 т. Том 1 читать книгу онлайн
В первый том вошли: повести, посвященные легендарному донецкому краю, его героям — людям высоких революционных традиций, способным на самоотверженный подвиг во славу Родины, и рассказы о замечательных современниках, с которыми автору приходилось встречаться.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Теперь я вижу Снегиря. Он лежит рядом на кровати. Опираясь забинтованной рукой о перила и другой, здоровой, о толстую шишковатую палку, передо мной стоит Строев. Он стоит на расстоянии трех шагов и смотрит на меня. Видимо, он давно уже смотрит так — взгляд у него усталый. Его виски стали еще белее — теперь они совсем похожи на снег. Я поднимаю голову, одну секунду передо мной только серые, сосредоточенные глаза. Впрочем, он поспешно отводит их в сторону.
— Послушайте, Василий, — говорит он тихо и совершенно бесстрастно, словно продолжая разговор, прерванный накануне. — Я должен сказать вам, что пласт подготовлен и что вообще дела обстоят хорошо… — Смутившись, он умолкает.
Но я слышу его дыхание. Я понимаю все. «Ты наш, — хочу я сказать ему. — Хорошо. Умница, старик… Ты понял правду. Ты с нами». Но почему-то говорю:
— Знаете, крепь надо заготовить… Да, крепежный лес. — И дальше совсем нелепо: — Погода, знаете, осенняя…
— Мы все сделаем. Все!
Я закрываю глаза. Такой резкий свет вокруг. Но неожиданно от дверей слышится голос Антона:
— Гляди-ка! — грохочет он, сотрясая певучие стекла. — Васька смеется! Право, смеется наш Василек.
— Что?! Васька смеется?.. — удивленно подхватывает Бычков.
Странно — и в самом деле — я смеюсь… И я сжимаю зубы, слыша, как бьется сердце… Жизнь! И вокруг вы, мои славные люди. Я буду жить.
Утро начинается криком перепела, влажным дыханием росы, ветром, идущим с нагорья. У корней трав еще спят отяжелевшие кузнечики. Солнце едва показалось над холмами, но все небо, от края до края, оранжево и глубоко.
От оврага путаными стежками бежит лисица. В бурьяне, у кротовых нор, коротко блеснул рыжий сухой огонь. Блеснул и исчез, но на мелких белесых ветвях тлеет розовый отсвет.
Высоко над нами, переваливаясь с крыла на крыло, плывет шулика. Ярко блестит мокрое перо. Слышно, как оно режет ветер.
Дед сидит на бревне. Он поднимает свою белую голову и долго следит за птицей, щуря слезящиеся глаза.
Костер уже давно погас, и за ночь раздуло пепел, а дед ни на минуту не уснул. Он сидит неподвижно, то опуская руки, то опять закрывая ими лицо, и тихо мурлычет песню. Губы его почти не шевелятся, и кажется, что песня долетает издалека.
Ночью, когда в куренях, в землянках, на скупой траве все засыпали, дед поднимался и подходил к шурфу и там подолгу стоял около ржавой проволочной ограды, трогал ветхие столбы и тихонько возвращался обратно, боясь потревожить сон усталых людей.
Видно по всему, с каким нетерпением ждал он этого утра. Еще до росы умылся, залил пепел, старательно выбил пыль из своего старого пиджака.
— Ты хотя бы на зорьке уснул, Михайло, — говорит Сенька, выходя из куреня. — День ведь очень велик.
— Нам што… не привыкать.
Сенька подходит ближе, достает кисет.
— А ты не думай о старом. Что о старом думать? Просто забудь, не тревожь… Ну, закури.
Дед старательно скручивает папиросу, бумага рвется, сыплется в траву табак. Брови деда нахмурены и жестки: он не может забыть о старом, не может и не забудет. Здесь, под этой самой землей, восемь лет назад он в последний раз видел сына. Сын смеялся и пел. Он был первый гармонист и песенник на поселке. Я тоже хорошо помню его, высокого белокурого парня с широким ремнем гармошки через плечо.
После обвала хозяин, тульский купец, забросил проходку. Он верил в признаки счастья, но обвал был слишком велик. И хотя к тому времени уже открылся метровый массив пласта, никто не возобновлял работы. Шурф огородили проволокой, старым канатом, завалили колючим терновником.
Здесь редко кто бывал, и только пастухи, гонявшие по солончакам свое тощее стадо, иногда видели около шурфа сутулого старика.
Михайло не был на похоронах сына. Он сам лежал в больнице с разбитой головой. Серегу похоронили вместе с другими в закрытых гробах, — полиция запретила открывать гробы, — и лишь через месяц Михайло увидел могилу.
В первый год он получал за Серегу по пятнадцать рублей в месяц, пропивал их и, валяясь около кабака, на мостовой, кричал и просил, чтобы и его добили. Потом он вспомнил о поясе — на Сереге остался плетеный зеленый пояс с никелевой пряжкой и ножом. Он хотел отрыть пояс для памяти, во что бы то ни стало отрыть. Как сумасшедший, целыми днями твердил он об этом, и знакомым еле удалось уговорить его не трогать могилу.
Постепенно Михайло утих, только стал иногда заговариваться и тихонько напевать песни, те самые, что пел Сергей.
С вечера, когда пришли крепильщики, старые проходчики и слесари и запели у костра «Калину», он встал, пошел в степь, но поспешно вернулся и потом до полночи бродил за землянкой в пыльном бурьяне.
Сейчас у него усталое лицо, сивый дымок папиросы течет по бороде, руки сложены на коленях.
— Трудная вышла у меня жизнь, — говорит он, задумчиво глядя на Семена. — Вот оно и думается, и несусветное плетется в другой раз.
Сенька шагает через пепел костра.
— Зато она ведь большая, жизнь! — кричит он. — Про одно свое некогда думать.
Он внимательно осматривает ворот, установленный только вчера. В нескольких шагах от него лежит новая бадья. На ней еще не потускнели следы накала. К электрической лебедке протянут свежий канат. Вчера закончили проводку, и вот уже скоро загудит мотор, и мы уберем хворост, снимем ржавую ограду.
Я подхожу к шурфу. Стая воробьев вылетает из пустот меж бревнами сруба. Внизу, в темной глубине, испуганно мечется летучая мышь.
У землянок запевает железо. Сначала тихо, приглушенно, затем громче, дружней… Вставай!
Пошевеливается, гудит пестрый лагерь. Сегодня мы открываем новый пласт. Это еще один шаг революции, — набирается силы, оживает Донбасс. На дальнем бугре уже показались первые подводы. Это везут крепежный лес. В стороне, на дубовых бревнах, взволнованно заговаривают топоры. По оврагу разливается серебряное эхо, будит птиц, весело скачет по камням. Шахтеры точат лопаты, плотники острят пилы — долгий, волнистый звон гремит над лагерем.
На крышу ближайшей землянки поднимается Трофим Бычков. Он нетороплив и подчеркнуто спокоен. Он всегда спокоен, и сейчас это особенно заметно. Партийного секретаря — Трофима — знают все на полсотни верст вокруг. У него наградная бумага — от штаба дивизии, сабля — от полка и четыре глубоких шрама на руках, на плече, на виске — эти шрамы он называет орденами. Он останавливается на острой крыше землянки, покачиваясь на крепких ногах. У него мальчишечья улыбка, слегка сдвинута бровь, и каждый хорошо знает цену этой крутой морщинке над бровью.
Шум откатывается, утихает, но Трофим еще ждет, пока в овраге прошумит листва.
— А какая у нас весна! — говорит он громко и неожиданно. — Май!
Кругом, куда ни глянь, подняты бородатые лица, приоткрытые рты, под ладонями, козырьками, приставленными ко лбам, ожидающие глаза. Я смотрю на Семена. Все лицо его светится от смеха, мелко дрожит кадык, дрожат веснушки на носу.
Голос звучит еще просторней и веселей:
— Хорошо начинать в такую весну!
От желтых бревен осторожно идут старики. Молодежь вся уже здесь, у землянки. Слышен частый стук подвод на горе, скрип колес.
— Это ведь не только новый пласт мы открываем. Все новое!.. Жизнь сама новая! Жадно нам надо работать, ребята! — и Трофим бросается с землянки к шурфу. Он хватает первый стояк ограды. Белая рубаха трепещет на его плечах, взлетают рыжие комья земли.
Над степью гул голосов, треск сломанных поленьев, визг ржавой проволоки и тугие удары ломов. Почва здесь удивительно звонкая. То загудит глина, то сухо прогремит кварц, то колчедан пронзительно вскрикнет под ломами. Колья ограды крепко вросли в камень и рыжую смесь пород. Грудью, плечами я расшатываю кривую рогатину. Снизу чьи-то руки подхватывают ее. Длинные багры тащат хворост. Рокочет лебедка, и сразу над освободившейся черной глубиной повисает гулкая, как колокол, бадья.
Строгий седой инженер Строев подходит к вороту. Трофим рядом с ним. Они о чем-то говорят, и потом в тишине сквозь расступившуюся толпу дед Михайло идет к шахте. Он первым становится в бадью. Огонек лампы дрожит на его груди. Бадья медленно вращается, и с нею вращается дед, и всем видно, как солнце блестит в его белой бороде. Канат притягивают багром. Инженер становится рядом с дедом. Дребезжит сигнал, и некоторое время шахтерам, столпившимся вокруг шурфа, видно поднятое кверху лицо деда, его смеющиеся глаза.