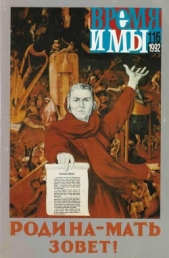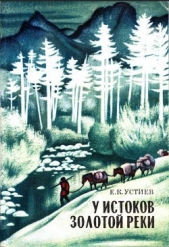К Колыме приговоренные

К Колыме приговоренные читать книгу онлайн
Юрий Пензин в определенном смысле выступает первооткрывателем: такой Колымы, как у него, в литературе Северо-Востока еще не было. В отличие от произведений северных «классиков», в которых Север в той или иной степени романтизировался, здесь мы встречаемся с жесткой реалистической прозой.
Автор не закрывает глаза на неприглядные стороны действительности, на проявления жестокости и алчности, трусости и подлости. Однако по прочтении рассказов не остается чувства безысходности, поскольку всему злому и низкому в них всегда противостоят великодушие и самоотверженность. Оттого и возникает по прочтении не желание сложить от бессилия руки, а активно бороться во имя добра и справедливости.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Получив физиономию вопроса и отойдя в сторону, недовольно говорил:
— И чего соловьёв разводит?!
Вечером, вернувшись с маршрута, он бросал у костра свой рюкзак с образцами и со студенткой Ниной шел на речку. Было слышно, как дорогой он спрашивал её:
— Нинон, между нами, девочками, ты когда замуж выйдешь?
А начальник партии в это время просматривал его образцы, морщился и многие выкидывал в кусты. Вернувшегося с речки Одинца это не смущало. Обнаружив, что рюкзак наполовину пуст, он смеялся и говорил Нине:
— Очередной выкинштейн!
Начальника партии Проньке было жалко. «Эх, Альберт Николаевич, — думал он, — мягкий ты человек. Да этого бездельника поганой метлой гнать надо».
Если же начальник собирал, всех и ставил общую задачу, после его выступлении брал обязательное слово Одинец.
— А не думаете ли вы, Альберт Николаевич, — начинал он, — что ваши предложения — это всего лишь метод пробного тыка? Не лучше ли нам идти широким фронтом, так сказать, с фланговым охватом?
Выступления его, видимо, ему самому нравились, после них он важно и долго перед всеми пыжился, а что касается предложений Альберта Николаевича, говорил о них:
— Видали мы его указявки!
А вот студентка Нина Проньке нравилась. Она ещё, как школьница, носила на голове большой из светлого шелка бант, лицо у неё было, как у кошки, круглое, глаза голубые и большие, и в них, кроме душевой открытости и мягкой доброты, ничего не было. К Альберту Николаевичу она относилась с большим уважением, Одинца, похоже, недолюбливала, а бичей боялась. Когда они напивались тайно выстоянной в кустах браги, она избегала их и жалась то к Альберту Николаевичу, то к Мирте Ивановне. К Проньке она, видимо, относилась хорошо. Ему она давала читать книги, а когда он ей их возвращал, всегда спрашивала:
— Интересно?
И так при этом смотрела на Проньку, что казалось, скажи он — неинтересно, она бы от обиды за книгу расплакалась. Видимо, она и жила-то только своими книгами, а на жизнь смотрела ещё по-детски, как на что-то не совсем ей понятное и поэтому интересное.
Наконец, в лагерь геологов пришла осень. С её прозрачным, как стекло, небом, задумчивыми в жёлтом убранстве далями, запахом прелого опада и шорохами падающих с тополей листьев Пронька почувствовал в себе что-то новое, что кружило ему голову, а когда он поднимался на речной утёс и смотрел на раскинувшиеся перед ним просторы, его охватывало чувство воздушного полета. Теперь уже не казалось, как в заключении, что природа — это искусственные цветы у гроба покойника. Мир, объявший и эту природу, и всех, с кем он проработал лето, для Проньки стал одним, и не было в нём уже прежнего деления на лагерь и нелагерь, а сам он себя чувствовал уже не пешкой в руках чужой воли и слепого случая. «А Нил-то Федотыч прав», — вспоминал он разговор с ним перед отъездом на Север.
Перед вылетом с поля геологи решили истопить баню. Пока она топилась, бичи напились браги и уже буйствовали в своей палатке. Первым помылся Альберт Николаевич, а за ним в баню пошла студентка Нина. Пронька в это время готовил себе бельё и заодно укладывал свои пожитки для отлёта. Вдруг он услышал громкие голоса, топот ног, и к нему в палатку вбежал Одинец.
— Прокопий Маркович, — вскричал он, — студентку насилуют!
В чём был, Пронька вскочил из палатки. Перед баней уже собрались геологи, они что-то кричали, суетливо бегали, но в баню кинуться боялись. Бич, насилующий там Нину, грозил им через окошко, что всех перережет, а Нина, уже задыхаясь, кричала и звала на помощь. Как Пронька ворвался в баню, взял ли он топор в предбаннике или где-то в другом месте, он не помнил. Топор расколол бичу голову и он, не ойкнув, свалился на пол.
Проньку судили и дали семь лет. По суду выходило, что если бы у бича, как и у Проньки, был топор, то тогда не было бы превышения оружия нападения, и его бы, Проньку, оправдали.
Простые люди
Посёлок горняков, заброшенный в верховья Колымы, состоял из осевших в землю деревянных одноэтажек с облупившейся штукатуркой и покосившимися окнами. С его убогостью не вязались светлые черепичные крыши да широкая, как городская магистраль, улица. Омытая дождями черепица в солнечные дни блестела, как новая, на улице в такие дни мальчишки гоняли мячи, а взрослые сидели кто на крыльце, кто на завалинке, и ничего не делали. Посёлок был небольшой, и все друг друга хорошо знали. Никого уже не удивляло, что Нюрка Огольцова почти каждый год выходит замуж и, как по заказу, через каждые три рожает детей, что Коротеня много пьёт, а напившись, выходит на крыльцо и играет на гармошке, знали, что Бояриха гонит самогонку, а пенсионер Пряхин откладывает деньги на свои похороны. На окраине посёлка, откуда уже начиналось болотистое редколесье, с мужем Николаем жила Вера Ивановна. К ним недавно приезжала дочь и оставила им своего Лёвку.
Жизнь в посёлке протекала мирно и тихо, и с тех пор, как у Боярихи сгорела баня, в которой она по ночам гнала самогонку, особых событий в ней не было. Жили открыто, ни в чём не таясь и не высовываясь, и понимали друг друга с полуслова. Если кто-то умирал, хоронили сообща, а когда приходили праздники, гуляли одной компанией. Иной раз казалось, что от такого тесного общения и одинакового образа жизни и по облику все стали похожи друг на друга. Выражалось это в неброском виде, спокойном выражении лиц и неторопливых движениях. Отличались только по возрасту да ещё по тому, что каждому дано с детства. У рыжей Нюрки Огольцовой были ореховые глаза, у толстой Боярихи — пухлые, как оладьи, щеки и длинный нос, щуплый Коротеня отличался большими, как лопухи, ушами и тонкой шеей, Пряхин был крупно сложен, как слон, неповоротлив, а болтливый и словоохотливый Николай у Веры Ивановны, когда говорил, казалось, половину своих слов проглатывает, и поэтому понять его всегда было трудно, у самой же Веры Ивановны были по-овечьи грустные глаза и большие, как у деревенских баб, руки.
Объединял этих людей не только одинаковый образ жизни, объединяла их и работа. Никто из них не поднялся в ней высоко, работали там, где прикажут, и делали — что скажут. Так как работа для них являлась неотъемлемой частью жизни, как, например, еда или сон, ею они не тяготились и не лезли в ней в передовики, но и не опускались низко. Работали — как работалось, а вечером шли домой и занимались своими делами. И так изо дня в день до первых праздников или других знаменательных событий.
Недавно у Нюрки опять состоялась свадьба. Жених, надувшийся за столом индюком, делал вид, что женится на ней, исходя из самых серьезных побуждений. У него были круглые навыкате глаза, толстая шея и похожий на клюв орла большой нос. Одет он был в новый, хорошо подогнанный к его полной фигуре костюм, зубы и портсигар у него были позолоченными. Звали его Георгием, и было заметно, что в нём течёт нерусская кровь. Когда его спросили, и сколько же стоит этот портсигар, он ответил:
— Дывести рубыл.
Нюрка от любви к этому Георгию, похоже, совсем обалдела. Она жалась к нему, как кошка к теплому камину, подкладывала ему в тарелку что повкуснее, а когда он обронил на пол вилку, она так бросилась за ней, что чуть не перевернула стол. А сам Георгий Нюрку называл мой Анэ и смотрел на неё, как кот на сметану, а когда его спросили, не помеха ли ему её дети, он ответил:
— Дэти — мой слабость.
Коротеня на свадьбе играл, пока не свалился со стула, а Бояриха так плясала, что звенела на столе посуда. Когда она пригласила в круг пенсионера Пряхина, и он не отказался:
— Эх, где наша не пропадала! — весело крикнул он и выдал таких кренделей, что никто их от него и не ожидал. Неповоротливый в трезвом состоянии, тут он гоголем заходил вокруг Боярихи, на когда пошёл вприсядку, не выдержали ноги и он, расстроенный, вернулся на своё место. А Бояриха, выбивая дроби, уже пела: