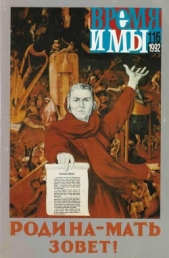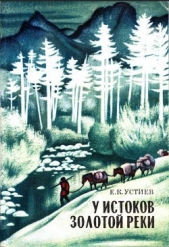К Колыме приговоренные

К Колыме приговоренные читать книгу онлайн
Юрий Пензин в определенном смысле выступает первооткрывателем: такой Колымы, как у него, в литературе Северо-Востока еще не было. В отличие от произведений северных «классиков», в которых Север в той или иной степени романтизировался, здесь мы встречаемся с жесткой реалистической прозой.
Автор не закрывает глаза на неприглядные стороны действительности, на проявления жестокости и алчности, трусости и подлости. Однако по прочтении рассказов не остается чувства безысходности, поскольку всему злому и низкому в них всегда противостоят великодушие и самоотверженность. Оттого и возникает по прочтении не желание сложить от бессилия руки, а активно бороться во имя добра и справедливости.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Бабу нашов, а диты сироты.
В сентябре Марью Филипповну вызвали в район на совещание библиотекарей. Там, в первый же день, она пошла к Ивану Парфёнычу. В больнице ей сказали, что за Иваном Парфёнычем приезжал сын и увёз его с собой. Медсестра, которую он называл Лидочкой, увидев её, сказала:
— А вам письмо.
На скамейке, где они с Иваном Парфёнычем сидели в прошлый раз, Марья Филипповна читала письмо и плакала.
Рецидивист Пронька
От детства память Проньке сохранила длинные зимние вечера, когда за окном гудели метели, а в поле, за деревней выли волки. В доме в такие вечера было холодно, а Проньке хотелось есть, но есть было нечего, и он ждал, когда придут мать с отчимом. Приходили они поздно и всегда пьяными.
— Покорми выродка! — командовал отчим и, не раздеваясь, падал в постель.
— Сам выродок! — отвечала ему мать и совала Проньке в руки принесённый с собой пряник.
Пронька пряник ел, а мать, гладя его по голове, пьяно причитала:
— Да и кто же это тебя, мою кровинушку, окромя твоей родной матери и покормит-то!
Отчим, которого, казалось, не свалишь и оглоблей, умер от водки. Выпив её литр без закуски на спор с деревенскими придурками, он пошел домой. Дорогой его хватил удар, и, не ойкнув, он свалился в придорожную канаву. В деревне его за тяжёлый характер не любили, и поэтому особых сожалений по поводу случившегося матери никто не выразил. Да мать, наверное, в них и не нуждалась. Без него она как будто бы даже помолодела, и хотя по-прежнему пила водку, но уже без запоев и тяжелых похмелий, а открыто и весело, и утром, сколько бы не выпила вчера, на работу не шла, а, как казалось, вприпрыжку бежала. Если же её пытались остановить и завести с ней разговор, она отмахивалась и на ходу бросала:
— Уж извиняйте, а мне некогды.
Проньку после смерти отчима она стала замечать не только когда он был голодным, но и когда он что-нибудь вытворял. Он тогда убегал из дома и прятался в огороде, а мать, выйдя на крыльцо, кричала:
— Пронькя-а, иди, я тебя побью!
Пронька идти домой не собирался, а когда приходил вечером, она уже всё забывала. Отца своего Пронька не знал.
— Ты у меня от енарала, — смеялась мать и добавляла: — Чтоб ему, сатане, там и издохнуть.
Видимо, Пронькин «енарал» в то время сидел в тюрьме.
Ушла мать из жизни так же нелепо, как и отчим. Взявшись в нетрезвом состоянии вершить стог сена, она сорвалась с него и угодила на чьи-то вилы.
Ничего хорошего не вынес Пронька и из детдома. Директор его, по прозвищу Козедуб, в своих питомцах видел одно будущее ворьё, лагерь которым уже здесь заказан. Когда кого-то отправлял в колонию, он говорил: сдал на зону. Проньку Козедуб сдал на зону в четырнадцать лет за то, что он в драке пырнул стукача ножичком.
За колючей проволокой колонии, с её сторожевыми вышками и надзирателями, или, как их здесь называли, надзиралами, детдом Проньке казался раем, и он его часто вспоминал. Нравился ему в детдоме учитель физики Нил Федотыч. От него всегда пахло чесноком и водкой, а толстыми усами, горбатым носом и деревянно раскачивающейся походкой он был похож на капитана дальнего плаванья.
— А ну, Проня, помоги мне, — говорил он на своих уроках.
Пронька раскручивал проводки, цеплял их к висящему на нитке металлическому шарику, и когда опыт удавался и из шарика вылетали с треском искры, Нил Федотыч говорил:
— Молодец, Проня, Фарадеем будешь.
Проньке это не нравилось. Кто такой Фарадей, он не знал, но представлял его с большой, как у филина, головой, с длинными ушами и, как у всех нерусских, толстым пузом.
— Я не Фарадей, я Пронька, — разозлился он однажды на Нила Федотыча.
Нил Федотыч в ответ рассмеялся, погладил Проньку по голове и сказал:
— И русские Проньки не дураками были.
Видимо, свои опыты, прежде чем показать ученикам, Нил Федотыч практиковал вечерами в своём физическом кабинете. Однажды этот кабинет сгорел, а Нила Федотыча из школы выгнали.
Здесь, в колонии, тоже была школа, но была она с большим трудовым уклоном. От этого уклона у Проньки вечерами болела спина и ныли руки. Выучили его здесь на каменщика, а на штукатура не успели: пришел срок, и его перевели в лагерь. А сам Пронька научился в колонии воровать и курить. Правда, воровать в ней особенно было нечего, но слямзить с общего стола пайку хлеба или увести банку варенья из чужой посылки ничего не стоило. А с лишней пайкой хлеба ничего не стоило и заиметь курево. И ещё научился в колонии Пронька презирать всё, что стояло над ним. Он видел, что и начальник колонии, и все его надзиралы только с виду чистенькие, а копни поглубже — гад на гаде. Все они говорят: трудись — человеком станешь, а сами только и делают, — что водку пьют да баб по вечерам в колонию водят. И учат: не воруй, а у одного на ворованных харчах морда лопается, у другого — офицерский ремень на пузе не сходится. С такими представлениями о своих надзиралах и уменьем воровать в лагерь Пронька сразу вписался. И отсидеть бы ему там год и на волю, так нет: схлопотал новый срок. А случилось это так.
Практически он был уже бесконвойным, и когда надо было ехать в недалеко расположенный от лагеря посёлок за продуктами, направляли и его как грузчика. В одну из таких поездок он спёр со склада бутылку водки, и они с приставленным для блезира к нему охранником её выпили. Когда шофёр вольнонаёмник, он же экспедитор, пошел оформлять на груз документы, а охранник в машине уснул, Пронька решил сходить на протекающую рядом с посёлком речку. Присев на её обрывистый берег, он закурил и стал наблюдать — что происходит вокруг. А вокруг, оказывается, происходило такое, что Пронька забыл всё на свете. В тихой, похожей на заводь речке вместе с домашними утками купалось и полуденное солнце. Когда утки хлопали по воде крыльями, оно разлеталось на разноцветные осколки, а когда они уплывали на другую сторону реки, солнце собиралось в круглый и, как казалось Проньке, улыбающийся ему блин. Потом он заметил, как у берега играет рыба. Видимо, она и на самом деле играла, потому что водяных блох, прыгающих по водной глади, если и хватала, то так, между прочим. Не успел Пронька оторваться от рыб, как голопузый, с курносым носом мальчик подогнал к речке на водопой двух белых коней. Напоив коней, он подвел их к Проньке и, подавая ему повода, сказал:
— Подержи, я окунусь.
С разбегу он нырнул в воду и так долго не выныривал, что Пронька напугался — уж не утонул ли. Мальчик вынырнул прямо под уток, и они с испугу, громко крякая, бросились в разные стороны. Неожиданно на берегу появилась похожая на молодую купчиху баба с двумя пустыми ведрами.
— Уж не цыган ли? — глядя на Проньку, рассмеялась она.
— Почему цыган? — не понял её Пронька.
— А кони-то не твои. Не украл ли?
И, заметив, как Пронька растерялся, она рассмеялась еще веселее. Набрав воды, баба ушла, а вскоре и мальчик забрал у Проньки своих белых коней.
Закурив и присев снова на берег речки, Пронька увидел на другой её стороне косарей. Они широко махали косами и в высокой по пояс траве казались порхающими над ней бабочками. За ними стеной стояла окутанная в сизую дымку тайга, а дальше, за той тайгой по краю голубого неба плыли белые, как снег, облака. «Вот она какая, воля-то!» — думал Пронька, и от горечи, что он её не имеет, у него сжималось сердце. А когда косари, собравшись у шалаша, стали петь песни, ему захотелось плакать. После барачных нар, зарешёченных окон и грубой охраны всё, что сейчас стояло и жило перед ним, казалось ему взятым из мира, опустившегося на землю откуда-то сверху, с какой-то другой, неведомой ему планеты. И эта похожая на заводь речка, и купающиеся в ней вместе с румяным солнцем утки, и этот мальчик с двумя, как снег, белыми конями, и весёлая молодуха с пустыми ведрами, и похожие на бабочек косари, и их грустные песни — всё это никак не вязалось ни с его лагерной жизнью, ни с тем, что он узнал и увидел в козедубовской колонии, с пьяницей матерью и с отчимом, сгоревшим от водки. Всё прошлое теперь ему казалось неуклюжим нагромождением нелепых и никак не связанных друг с другом событий, воспоминания о которых давили голову и теснили грудь, и казалось, что вместе с ними он опускается на дно мутной реки и перекатывает там тяжёлые камни. И накатила тогда на Проньку такая обида за свою неудавшуюся жизнь, и так ему стало жалко себя, что он уже и на самом деле заплакал. Может, это ещё и от выпитой водки, — ведь от неё мужики плачут пьяными слезами, — кто знает, но когда Пронька перестал плакать, он решил: бежать! Представить себя в лагере после того, что он увидел, он уже не мог. Перемахнув вплавь через речку и обойдя стороной косарей, он углубился в тайгу.