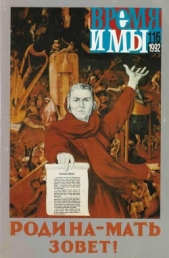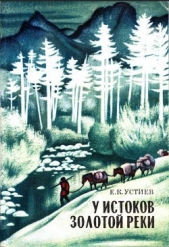К Колыме приговоренные

К Колыме приговоренные читать книгу онлайн
Юрий Пензин в определенном смысле выступает первооткрывателем: такой Колымы, как у него, в литературе Северо-Востока еще не было. В отличие от произведений северных «классиков», в которых Север в той или иной степени романтизировался, здесь мы встречаемся с жесткой реалистической прозой.
Автор не закрывает глаза на неприглядные стороны действительности, на проявления жестокости и алчности, трусости и подлости. Однако по прочтении рассказов не остается чувства безысходности, поскольку всему злому и низкому в них всегда противостоят великодушие и самоотверженность. Оттого и возникает по прочтении не желание сложить от бессилия руки, а активно бороться во имя добра и справедливости.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А за окном стояла белая ночь. Всё, что было видно из него, казалось призрачным и невесомым. Уходящие к горизонту дали растворялись в словно вытканной из ситца дымке, лес за посёлком был похож на затянутое моросью редколесье, дороги, уходящие в него, тонули там, как в вате, а сам посёлок казался бесцветным и невыразительным, как карандашный рисунок. Вид из окна совсем испортил настроение Кузьме Петровичу, на место мышиной возни мыслей пришло сознание тупой безысходности. Уже казалось, что и его жизнь, как и эта белая ночь, и бесцветна, и невыразительна. В прошлом, казалось ему, не было ничего яркого, всё шло само собой, а сейчас, когда пришла старость, кроме желания скорее уйти на пенсию, ничего не осталось. И он бы, наверное, ушёл, если бы этого так страстно не желали его сослуживцы. Главврачу, якобы за его несносный характер, он давно стоит поперек горла, метивший на его место фельдшер Кадашкин готов отправить Кузьму Петровича не только на пенсию, но подальше, где пенсия уже никому не нужна, а массажистка Домна Ивановна, которую он не раз ставил на место, не терпела его присутствия даже в одном помещении. «Ишь, чего захотели! — зло думал о них Кузьма Петрович.
В дверь кабинета, где находился Кузьма Петрович, постучали, и на пороге появился сторож больницы Ефим Мошин. «Тебя ещё не хватало!» — раздражённо подумал Кузьма Петрович. На грубом, словно сколоченном из дерева лице Мошина плавала нахальная улыбка, но входил он в кабинет с вкрадчивой, как у провинившегося кота, осторожностью. Таким он был постоянно, когда приходил, чтобы опохмелиться. Причина этого крылась в той роли, какую он играл в больнице. В ней он только числился в сторожах, на самом деле его использовали на мелких хозяйственных работах, без которых, как известно, ни одна больница не обходится: подметал двор, ремонтировал столы и стулья, чинил электропроводку, помогал патологоанатому Павлу Ивановичу в морге укладывать покойников в удобное для него положение. Когда он уходил в запой, для главврача это были чёрные дни. «Как хотите, — жаловался он на пятиминутках, — а без Мошина мы как без рук». Зная это, Мошин считал, что опохмелять его больница обязана и поэтому после запоя за очередной мензуркой спирта шёл с расплывшимся в наглую улыбку лицом, но, понимая, что в этом можно нарваться и на несговорчивого врача, делал это с вкрадчивой осторожностью. Не оставалось от неё и следа, как только он выпивал. Вся фигура его приобретала независимый вид, а тон, с которого начинал разговор, был развязным.
— Ну, и как живём? — спросил он Кузьму Петровича после того, как выпил.
Не получив ответа, Мошин сказал:
— Вот смотрю я на тебя, — (когда Мошин выпивал, он всем тыкал), — смотрю на тебя, — повторил он, закуривая, — и думаю: зачем это люди сидят по ночам в больнице и ничего не делают? Скажешь: а вдруг кто-то копыта станет отбрасывать? Ну, и что? Кому записано умереть, тому никто не поможет. — И вдруг, словно его пощекотали под рубахой, Мошин мелко хохотнул и продолжил: — Был у нас в лагере такой же, как ты — кожа да кости. И тоже — не ел, не спал, всё по ночам в больнице сидел. Для меня, говорит, больной — святое дело: себя положи, а его поставь на ноги. Ну, и что? Первым и скопытился. Утром пришли, а у него и голова набок. Вот тебе и святое дело! Не-е, — затушил в цветочном горшке папиросу Мошин, — кому что записано! Одному: живи — не хочу, другому — что козлу в чужом огороде: по рогам и в ящик! А потому сиди и не высовывайся. Без тебя обойдутся. Вот смотри, — снова хохотнул Мошин, — чего надо твоему Павлу Иванычу? Копается в покойниках, как в своем кармане, а зачем? А я, говорит, Ефим, причину смерти узнаю. Вдруг убийство совершилось, задушили кого, к примеру, жена мужа, а я по лёгким-то и вижу. Ну, что с дурака взять! — всплеснул руками Мошин. — Да ты сначала на жену свою посмотри! Курва она, гуляет с кем ни попадя, а ты — ни ухом, ни рылом. Выпьем это с ним, радуется: эх, Ефим, жена у меня — ну прямо, что надо! И ласковая, и красивая, хоть картину с неё пиши. Дурак ты, думаю, её пороть надо, а ты — картину!
Слушать Мошина Кузьме Петровичу было неприятно, и он был рад, что наконец-то пришло утро, и Мошину пора было уходить. Первым на работе появился главврач. Небольшого роста, с круглым, как у монгола, лицом, за стол он, казалось, не сел, а вкатился шариком.
— И как дежурство? — весело спросил он Кузьму Петровича. — Не устали?
И уже из-за стола, копаясь в бумагах, как бы между прочим, спросил:
— А как пенсионные дела? Оформляете?
За ним появилась Домна Ивановна. Она тяжело дышала, а когда стала натягивать на свою полную фигуру халат, никак не могла попасть в правый рукав, а когда попала, халат треснул. Заметив Кузьму Петровича, удивилась:
— И вы здесь?
С опозданием появился и Кадашкин. В раздёрганном виде и с помятым лицом, он был похож на человека, только что выскочившего их переполненного автобуса.
— А, коллега, как живем-здравствуем? — приветствовал он Кузьму Петровича, и, ловко накинув на себя халат, попросил: — Можно вас на пару минут?
Кузьма Петрович вышел с ним в коридор. В коридоре Кадашкин взял его за пуговицу пиджака, покрутил её в одну сторону, потом в другую и неожиданно спросил:
— Скажите, коллега, медсестра, что с вами сидит на приеме, Израилева, кажется, не из тех?
— Из каких не из тех? — не понял Кузьма Петрович.
— Да нет! Вы не подумайте, что я махровый антисемит, просто у меня на этот счёт свои принципы, — не ответил на вопрос Кузьмы Петровича Кадашкин. — А работать-то, — оставив его пуговицу, добавил он, — я могу хоть с чёртом.
«Во как! Уже и уволили! — зло думал Кузьма Петрович, выходя из больницы. — Ну, да мы еще посмотрим!»
Осенью Кузьме Петровичу исполнилось шестьдесят лет. На юбилей, с шампанским и подарками, нагрянули сослуживцы. Домна Ивановна, что не терпела Кузьму Петровича в одном помещении, здесь по поручению коллектива поднесла ему большой букет цветов, а главврач, которому он стоял поперёк горла, от имени этого коллектива зачитал поздравительный адрес. Читал он его с подъёмом и выразительно, а после фразы: «Для нас, дорогой Кузьма Петрович, работать с Вами и учиться у Вас большое счастье», — громко крякнул и зачем-то почесал затылок. После того, как выпили и закусили, слово взял фельдшер Кадашкин. Мастер на все речи: от свадебных до похоронных, теперь, надеясь, что уж после юбилея-то Кузьма Петрович обязательно уйдёт на пенсию, он превзошел самого себя.
— Посмотрите на нашего дорогого юбиляра! — начал свою речь Кадашкин. — Кто скажет, что перед нами шестидесятилетний старец?! Никто! Перед нами юноша, полный свежих сил, лучезарных надежд и неутомимой энергии! — А когда Кадашкин перешёл к характеристике профессионального облика Кузьмы Петровича, его словно чёрт ударил по затылку. Он вытянулся в палку и закричал: — Не-ет! Кузьма Петрович не рядовой медик, он выше! Только ему подвластны тайны медицинской науки, только он до глубины души предан своему делу, только он не щадит своих сил и не спит ночами, только он достоин; своего высокого призвания! Так пожелаем же этому талантливому труженику и. дальнейших творческих успехов, и больших радостей в жизни!
Раздались аплодисменты и возгласы: «Ура! Ура!»
— И ещё! — вздёрнулся по-новому Кадашкин. — Посмотрите, кто сидит с ним рядом, что это за дама, полная и божественной красоты, и ангельского обаяния. Ба! Да это же Анна Федуловна! — всплеснул руками Кадашкин.
Кузьма Петрович его не понял: рядом с ним сидела Анна Фёдоровна, но никакой Анны Федуловны рядом с ним не сидело. А Кадашкин продолжал:
— Вот она, верная спутница нашего юбиляра. Вот оно, то чудесное создание природы, которому мы обязаны его здоровьем. Счастья вам, дорогая Анна Федуловна! — закончил Кадашкин свою речь.
За жену Кузьма Петрович обиделся, а то, что говорили о нём, принял за тот вздор, какой всегда несут на юбилеях и всё было бы ничего, если бы Кузьма Петрович не был из той категории людей, которые в выпившем состоянии не терпят лжи и режут в глаза правду-матку. После первой рюмки, заметив весело беседующего с Домной Ивановной главврача, Кузьма Петрович подумал: «С чего это он крякал и чесал затылок, когда читал мой адрес?» И ещё вспомнил Кузьма Петрович, что, читая этот адрес, главврач нередко бросал на Кадашкина насмешливо-недоуменные взгляды, а когда закончил читать и сел за стол, сказал ему тихо: «Ну, ты и даешь!» Ясно, что адрес писал Кадашкин, а главврач к нему руки не прикладывал. После второй рюмки Кузьма Петрович вспомнил, за что массажистка Домна Ивановна не терпела его в одном помещении, а однажды пообещала посчитать ему рёбра. Эта корова посмела тогда сказать ему: «Вы хоть и терапевт, но носа передо мной не задирайте!» «Ах, так!» — не вынес этого Кузьма Петрович и, как всегда, поставил её на своё место. Вот тогда-то она и заявила: «Ну, попади ко мне, и посчитаю же я тебе рёбра!» После третьей рюмки Кузьма Петрович взял слово. Сначала, как и положено юбиляру, он поблагодарил всех за то, что не забыли старика, но когда дошёл до своей правды-матки, его словно ударили по голове. Главврача он обозвал прохвостом, Кадашкина — трепачом, а Домну Ивановну — хамелеонкой. В заключение он сказал, что пенсии его никто не дождётся, и работать в больнице он будет до самой смерти. Разошлись с юбилея, как с поминок.