Большая родня
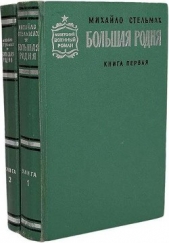
Большая родня читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XXXVІІ
Осенние мелкие дожди падали на уныло притихшую землю, зелено потемнели воды в озерах, когда однажды вечером Михаил и Соломия простились с лесником и лесничихой.
— Да будет вам, дети, всюду счастье и доброе здоровье, — вытирая загрубелой рукой глаза, наклонилась Елена Михайловна. — Если сможете осчастливить наш дом, — не сторонитесь. Коли нет своих детей, то хоть на чужих, добрых, насмотрюсь. — Поцеловала трижды и Михаила и Соломию и начала отдаляться.
Созинов еще несколько раз увидел ее из-за деревьев со сложенными на груди руками, с наклоненной головой, а потом темнота скрыла от него женщину, которая не раз тихим материнским словом согревала застывшие от ненастья сердца.
Лесник долго вел их узкими покрученными тропинками, пахнущими влажным красным папоротником, решетчатыми маслятами и подопрелой корой полуживого дерева. Ноги то мягко утопали в податливых мхах, то шелестели по нескошенной траве, то звонко хрустели по сухому густому желудю.
Изменяющаяся радость, ощущение, что приближаются родные места, сделали Соломию более резкой в движениях и как-то, без слов, незаметным притяжением приблизили ее к Михаилу. И он это понял с волнительным трепетом и надеждами.
— Прощай, Михаил, — обнял его лесник, и бородатое лицо на минутку закрыло приглушенный вечерний свет. — Прощевай, Соломия. Закончится война — приезжайте ко мне свадьбу играть! — и растаял в темноте, оставляя на губах терпкий табачный дух.
Постепенно проступали звезды. На востоке, над лесом, то разгорались, то гасли Стожары и дружно, как верные товарищи, остановились над деревьями Косари [127].
Легко между деревьями шла Соломия, по родным приметам узнавая местность.
На рассвете вышли к Бугу. Над водой, сияя белой изнанкой круто выгнутых крыльев, медленно пролетел зимний кобчик. Его веселый, тонкий свист долго дрожал над водой, с готовностью усиливающей все звуки.
— Водяные крысы уже перебрались на сушу. Скоро наступят холода, — указала пальцем Соломия на крутой, подмытый водой берег. И снова в голосе мелькнуло сдержанное волнение, волнение встречи с близким и родным миром.
— Почему так думаешь?
— А что же здесь про этих вредителей думать? Мы с ними беспощадную борьбу вели, чтобы не подтачивали берега и не вредили овощу. Видите, какой берег стал, как осиные соты! Летом здесь гнездились птички — береговые ласточки. Они первые на юг отлетают. Водяные же крысы расширили, увеличили их гнезда и поселились в них.
— Они засыпают на зиму?
— Нет. Под снегом хозяйничают. Такие туннели поделают к скирдам сена, хлеба…
В лесу, недалеко от Буга, нашли приземистую скирду сена, влезли на нее, удобно устроились и легли невдалеке друг от друга.
— Как пахнет сено, как чай, — пожевала сухую былинку.
— Ну да, — он поправил зеленый вихор, свисающий над головой девушки, и тихо положил руку на плечо. Ощутил, как съежилось ее тело.
— Не надо, Михаил Васильевич, — тихо промолвила, и он, вздыхая, убрал руку. Тоскливо и неудобно было. Сердился на самого себя, а кровь с гулом распирала череп.
— Чего вы запечалились, Михаил Васильевич? Не надо, — лодочкой своей небольшой ладони коснулась его плеча и посмотрела грустно-улыбающимся взглядом в его глаза. И что-то словно надорвалось внутри от того взгляда. Молча, закрывая глаза рукой, уткнулся головой в сено, влажное и ароматное. И не промолвил ни единого слова…
Она же и развеяла его печаль на следующий день. Туманным рассветом вышли на опушку насторожившегося леса. Соломия нагнулась, чтобы поднять с земли желтую, как воск, кислицу; привставая, вдруг радостно сдержала восклицание замедленным: — Ох! — и прислонилась крепко к плечу командира.
— Михаил Васильевич! Он! Наш Большой путь!
За полем из пелены тумана тускло выделялись округлые верхушки деревьев. Казалось, что это лес волнистой полосой врезался в поле и, кланяясь другому лесу, идет в далекие-далекие миры.
Сама того не замечая, она потянула парня за руку, и так оба подошли к самому полю, вглядываясь в налитые сизой сыростью молчаливые деревья. И как-то на глазах начал развеиваться туман, будто его подмывала невидимая волна. Прояснились между стволами просветы, на той стороне дороги проглянул клочок поля.
— Правда же, вы на меня не сердитесь? — пытливо, с нежностью и тревогой взглянула ему в глаза и обеими руками взяла его руку.
— Разве же ты не видишь? — приветливо улыбнулся ей.
— Вижу, — тихо ответила и уже шутливо прибавила: — Грех теперь сердиться. Отец на меня не сердился, и вы не должны…
И, как птица, подалась всем телом вперед.
XXXVІІІ
Дмитрий тяжело переживал первые неудачи. Они бременем ложились на его душу, однако не расслабляли волю, делали ее тверже, закаляли, как огонь закаляет сталь. Только чувствовал, что тело грузнело и больше темнели глаза; все реже и реже улыбался; заботы налегали тяжело и плотно. Тем не менее никому, кроме Тура, не поверял свои чувства, знал — не до них теперь: у каждого беда. Своих же партизан выслушивал внимательно, следя не только за словами, но и за глубинным ходом мысли, и потому входил в человеческую душу незаметно и крепко. Его скупое, продуманное слово выполнялось точно, как приказ. Нелегко было положить на плечи и сердце новый круг обязанностей, более широких и более сложных. Однако здравый смысл, чистая совесть, напористое упрямство перепахивало, как плуг землю. И только теперь, столкнувшись с глазу на глаз с более суровыми испытаниями, с жизнью неприукрашенной, жестокой, неумолимой, понял он, как тяжело быть руководителем, отвечать за судьбу людей, доверивших ему свою единственную и неповторимую жизнь. Отрезанный от большого мира, он жил единым дыханием с ним, а осенние ветры, шедшие с севера, были не просто ветрами, а ветрами с Большой земли, вестниками из Москвы. Входя в село, он был не просто Дмитрием Горицветом, обычным человеком, который имеет свое горе, печали, а живой цепью, соединяющей Большой мир с краем, придавленным фашистской неволей.
Да, Дмитрий тверже начал шагать по земле. Так как она, родная земля, обагрилась не только потом, но и кровью его.
Теперь все чаще встречался с людьми, вслушался в их речи, учился, делился с партизанами словом, как делятся последним куском хлеба, знал, что сказать селу, зажатому в неволе, бедности, беде. И в его скупых, упрямых словах была та сила, которая поднимала людей, как луч поникшую траву.
Разгромив в одном селе полицию и мадьярскую стражу, он узнал, что фашисты пустили слух, будто они захватили Москву и идут на Урал. Дмитрий приказал собрать людей возле большой, с башнями, школы, которая белым пароходом вытекала из осеннего рассвета.
Сходились мужчины и женщины, молчаливые, задумчивые, так как у каждого горе дневало и ночевало, так как каждому думалось про своих детей, от которых — сколько уже времени — ни ответа, ни привета; ближе подходили шестнадцатилетние юноши, чтобы первыми попроситься в отряд.
Он ждал, пока не подойдут люди из самых дальних уголков, пока не уляжется тишина, а потом тихо, крепко и с болью, из самого сердца вырвалось:
— Товарищи! Дорогие братья и сестры!
И толпа вздохнула, заколебался, снова вздохнула и прояснилась. Это впервые к ней после нескольких месяцев оккупации прозвучало родное слово Родины, отозвалось вместо липкого ненавистного «господа».
И, как по неслышной команде, ближе подошли люди к Дмитрию, слились с партизанами. Волнение хлеборобов передалось ему; чуть переводя дух, вглядывался подобревшими глазами в тесный полукруг измученных людей.
— Сердечный партизанский привет вам, люди добрые. И привет от воинов Красной Армии. Вместе, как две руки одного человека, мы бьем фашиста. И разобьем его, так как этого хочет наш народ, так как этого хочет наш отец Сталин. Всеми войсками теперь командует родной Сталин. Наш вождь обращается к народу, чтобы не теряли надежды, не верили всякому вранью. Никогда никаким врагам не видеть Москвы. Скорее рак свистнет и сухой молот зацветет, чем кто-то победит нас.

























