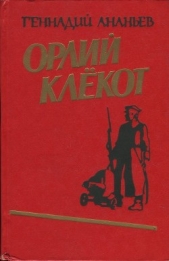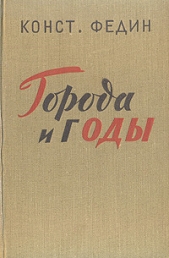Города и годы. Братья
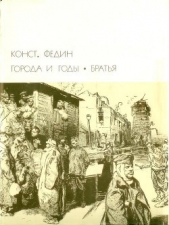
Города и годы. Братья читать книгу онлайн
Два первых романа Константина Федина — «Города и годы», «Братья» увидели свет в 20-е годы XX столетия, в них запечатлена эпоха великих социальных катаклизмов — первая мировая война, Октябрьская революция, война гражданская, трудное, мучительное и радостное рождение нового общества, новых отношений, новых людей.
Вступительная статья М. Кузнецова, примечания А. Старкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Никита заметил беспокойство позже других, может быть, потому, что оно коснулось его иными путями, чем близких ему людей: он стал утрачивать отчетливость и точность слуха. Это случилось совершенно так же, как бывало со зрением, когда Никита глядел на приближавшуюся снеговую тучу: различимое и яркое очертание небосклона угасало, меркло, серая масса застилала его, неуклонно надвигаясь и все больше захватывая небо и степь, потом вся степь и все небо заслонялись непроницаемой толщей, вдруг навалившейся на город и начинавшей проглатывать бесследно дом за домом, квартал за кварталом, пока не подлетала к самому окну и не задергивала его густой завесой. Так со слухом: прозрачная чистота звуков, наполнявших воображение, ясность, в которой звуки улавливались в отдельности и в любой связи, вдруг исчезала; на смену ей приходил шум, усиливавшийся, поглощавший последние отчетливые отголоски; звуки обезличивались, теряли окраску, окутанные заглушенным шумом; казалось, будто за пределами комнаты стоит немая пустота; наконец, звуки замыкались в деревянном коробе рояля, и, если Никита бил по клавише, тупой удар молотка по струне раздавался глухо, точно зажатый подушкой.
Сначала Никита объяснял свое состояние усталостью. Он бросил работать и пробовал читать. Но глухота возрастала, и предчувствие какой-то болезни томило с каждым днем больше и глубже.
В снежной бесконечности за окном, где меркнули остатки привычных для Никиты звуков, в бесформенном колебании шумов неожиданно проныли далекие, раскатистые гулы. С этого дня в доме Никиты сразу проявилось все напряжение, тщательно и тщетно скрывавшееся долгие недели. Начались сборы в путь, приготовления к уходу, охватившие весь город. Чем ближе подходил час отступления, тем сдавленней и обреченней становилась людская поспешность, и, чудилось, самое дыхание людей отравлялось ядом страха: ложились спать не раздеваясь, ели и пили на ходу, наспех. Война стонами накатывалась на город.
Тогда Никита в подробностях вспомнил стоны Смурского переулка, хряский волчий вой потников и анафем, киноварно-красного человека, зыбко идущего по пыльной дороге, на которой остаются черные следы ступней. Так же, как и теперь, ночи содрогались тогда в непрестанном, протяжном стоне, и стон проникал повсюду, так же, как теперь, яд страха омертвил дыхание людей, и город почти весь тронулся в обреченный свой путь. То, что происходило тогда за окном, вырвало Никиту из круга обычного его мирка, из пределов пылинки, становившейся для него миром. Смурский, смурыгий мир раскрылся перед Никитой, и он увидел зарницы пожара, обгорелые сваи домов, гвоздыри и дубье над головою человека, кладущего быстрые, страшные кресты.
Стоны и волчий вой силились теперь снова вырвать Никиту из его пылинки, уже давно ставшей целым миром, не ограниченным ни небом, ни землей. От ужаса смурыгого царства, от зарниц пожаров Никита бежал тогда в свою пылинку, и она спасла его, вознаградив неповторяемым восторгом первого прикосновения к настоящему делу, к радости дела. Разве мог бы теперь Никита отказаться от своего пути, покинуть пылинку, взрастившую его с материнской любовью?
Никита в злобе, в упрямстве опять и опять брался за работу. Но стоны глушили его, стоны наводняли комнату, точно какое-то чудовище отдирало город от почвы.
Наконец Никита впал в бесчувствие, в тягостное забытье, когда действительность не исчезает, а дополняется смутными видениями, чуждо и грузно врывающимися в сознание. Так оркестры встретившихся на улице полков врываются друг в друга маршами разных тональностей и темпов.
Никита увидел себя мальчиком на уроке музыки, в подвале у Якова Моисеевича, за пюпитром, нарочно опущенным для ученика пониже. В глазах его рябили ноты, он силился припомнить значение трех нот, связанных одной чертой, и не мог.
— Слышите? — кричал Яков Моисеевич, потряхивая кольцами кудрей и громадным пенсне. — Акцент на первой ноте! Как это называется?
Никита не знал.
— Вот я напишу цифру, — не унимался учитель, — какая эта цифра?
— Три, цифра три, — робко лепетал Никита, глядя на тройку, которую учитель вывел между нотных линеек.
— Теперь я пишу… смотрите, читайте: «О-ль».
— Оль, — повторял Никита.
— Как это будет вместе?
Взгляд Никиты неподвижно застывал на нотах и ширился, ширился в страшном ужасе.
Он видел три ноты, соединенные чертой. Сверху они были связаны знаком легато. Над легато стояла тройка — 3 — и хвостиком прилипнул к ней слог «оль»: 3-«оль».
— Читайте же! — кричал Яков Моисеевич.
— Золь, — читал Никита.
— Да не «золь»! Ай, ве-е! Какая цифра впереди? Цифра, а не буква!
— Три, — чуть слышно повторил Никита.
— А дальше?
— Оль.
— А вместе?
— Золь, — опять бормотал ученик.
— Триоль, триоль, триоль! — взвыл Яков Моисеевич и вдруг, вырвав из рук Никиты скрипку, ударил ею по голове ученика и начал крушить в припадке злости направо и налево, по пюпитру, по стульям, по машине, выпускавшей шипучую гармонику бумажных обрезков.
Отец Якова Моисеевича, такой же кудрявый, как сын, но еще больше черный, зловеще раскачивался в такт ударам и пронзительно кричал:
— Это же великолепно, Яков! Трам-та тарримта, таррамта-тайрамта!
Яков Моисеевич носился в вихре бумажных обрезков, бил вокруг себя оторванным грифом скрипки и злобно сотрясал воздух мрачным, таинственным, ужасавшим словом: триоль, триоль, триоль! Потом весь подвал с кудрями Якова Моисеевича и с кудрями бумажных обрезков провалился в бездонную пропасть.
Никита, облитый холодным потом, летел вниз, в последнем приступе страха, слушая, как настигает его машина, изрыгающая триолями страшные удары: ррам-та-та! ррам-та-та! Никита хотел крикнуть, что ему давно известны триоли, что он прекрасно знает эти тройки связанных чертой нот, с акцентом на первой. Но машина настигала его в полете, и — рррам! — со звоном посыпались стекла, обломки, куски пюпитра, стульев, машины.
— Та-та! — отдались где-то отголоски орудийного выстрела, и почти тотчас снова зазвенели и взвыли стекла.
— Рррам!
— Та-та!
Никита очнулся. Канонада слышна была грозно и ясно. Война шла за окном.
Никита ощущал совершенную, черную глухоту, я горло его было сдавлено, как в приступе слез. Он с тоскою осмотрел свою комнату. Еще недавно милая его сердцу, она опостылела ему так, что у него вылетел стон, и он зажал руками глаза.
К нему поднялась закутанная в полушубок кухарка и, наполовину всунувшись в дверь, с деловитым спокойствием передала:
— Василь Леонтьич прислали сказать, что они все готовы, и спрашивают, чего вы поверх шубы наденете: тулуп альбы доху?..
Он не сразу ответил. С недоверием и опаской он поглядел на окно. Что они там вздумали, внизу? Он никуда не собирается ехать. О каком тулупе спрашивают его? Бежать? Но от кого, зачем, куда? Значит, никто не сомневался, что он поедет вместе с семьей.
Окно опять жалобно взвыло, и снова глухо, бездушно отозвалось тупое эхо.
— Та-та!
Нет, ни минуты дольше не мог Никита оставаться в такой бескрасочной, бездонной глухоте!
— Тулуп! — быстро сказал он. — Тулуп, и… я сейчас иду!
Он кинулся к роялю, к заброшенным, раскиданным по его крышке нотным листам и начал лихорадочно сгребать их в кучу. На стене около двери висел германский ранец, с которым он вернулся на родину. Он снял его и набил нотами. Потом он огляделся: нет, больше нечего было брать. Рояль? Он посмотрел на клавиатуру, немного запылившуюся в последние дни, и, не притронувшись к ней, опустил крышку. Секунду он постоял в раздумье. Как знать, кто подойдет теперь к роялю? Не запереть ли его? Никита торопливо замкнул крышку. Куда спрятать ключ, чтобы никто, никто не мог найти? Кого увидят теперь эти стены?
Тяжелый, прерывистый голос Василь Леонтьича взлетел по лестнице:
— Никита! Иди скорее, пора!
— Сейчас! — крикнул Никита в ответ.
Он взвалил на спину ранец, но тут же бросил его. Стены, увешанные Африками и Азиями всех масштабов, провожали его разноцветными взглядами, в которых внезапно вспыхнул человеческий укор.