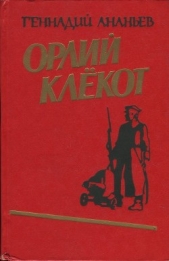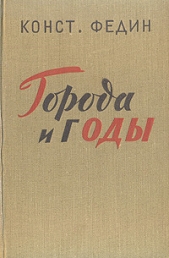Города и годы. Братья
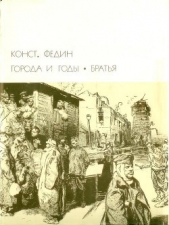
Города и годы. Братья читать книгу онлайн
Два первых романа Константина Федина — «Города и годы», «Братья» увидели свет в 20-е годы XX столетия, в них запечатлена эпоха великих социальных катаклизмов — первая мировая война, Октябрьская революция, война гражданская, трудное, мучительное и радостное рождение нового общества, новых отношений, новых людей.
Вступительная статья М. Кузнецова, примечания А. Старкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он молчал.
— Ну, так пошел вон! — проговорила она твердым, сдержанно-ровным голосом. — Да запомни навсегда: если мне Никита Васильич скажет слово, я все сделаю. Его дырявый сапог дороже твоей целой башки! Пошел!
С тех пор Витька не поднимал о Кареве разговора, и Варенька ни разу не напомнила своему братцу отчаянного его бунта против чистоплюя.
Почти пять лет шло старым чередом, так что Евдокия Петровна выплакала реки слез, убиваясь о дочери, отвадившей от дома женихов.
Варенька словно забыла думать о Никите Васильиче. Дружба ее с Витькой еще больше упрочилась, он постепенно вошел в доверие к Михаилу Гавриловичу, ходил по-хозяйски степенный, распорядительный, упиваясь благополучием и надеждами.
Но, поистине, человек строит свою судьбу на песке.
Когда казаки залегли осетрами в Уральске, распространяя сонливую рыбью уверенность, что все обстоит великолепно, что никакого бунта в яицком кругу не предвидится, что революция — дело иногороднее, мужицкое, не казачье, что, коснись живота, — они за себя постоят, что надо, мол, только выждать, отсидеться, — вот в это время на Варвару Михайловну напала необыкновенная радость. Все в ней ликовало, переливалось весельем, цвело, как весной рдело. Чем туже зажимали осажденный город сетью учуга, чем круче сковывал мороз притихшие дома, тем восторженнее становилась Варвара Михайловна, точно близившаяся, наступавшая гроза восхищала ее дух.
Один Витька угадал верно, откуда дул ветер, и сразу присмирел, заскучал, поник: в городе появился Никита Васильич Карев. Витька, впрочем, не знал, что возлагала Варвара Михайловна на пребывание в Уральске Карева, и никак не мог доискаться, видела ли она его, говорила ли с ним или узнала о его приезде стороной.
Варваре Михайловне удалось встретить Никиту, и встреча эта, как всегда, произошла случайно, мельком, на ходу.
Странно было, что, не видясь с Никитой годами, живя особой, отгороженной от него семью городьбами жизнью, Варвара Михайловна встречала его так, словно только что рассталась и продолжает прерванный разговор. Наверно, она действительно не расставалась с ним никогда, нося его с собой, в своем упрямом молчании.
На этот раз он первый окликнул ее, и, может быть, оттого она не справилась с волненьем, улица поплыла перед нею, и Никита показался ей каким-то сияющим, большим и счастливым.
— Надолго? — спросила она, почти задыхаясь.
Он уплывал от нее вместе с улицей, сверкая непонятной улыбкой, и, чтобы удержать, не пустить его, чтобы поспеть услышать его голос, она протянула к нему руки.
Но Никита не торопился уходить, он стоял против нее, лицом к лицу, непонятно улыбался и медленно поднимал ее руки к губам. Он поцеловал руки по очереди, сначала одну, потом другую, туго прижимая ко рту и ласково глядя в глаза Варваре Михайловне. Это было невнятно и зыбко, как во сне, и, как во сне, безостановочно струилась улица, и Никита то уплывал с нею, то до боли ясно появлялся перед глазами, близко-близко к лицу. Она расслышала какие-то слова о работе, о рояле, который где-то хорошо стоит, о Чагане и луке, все это сбилось в кучу — рояль, Чаган, лука, — и только одно сверкнуло в сознании: надолго, надолго!
Варвара Михайловна придвинулась к Никите и — не зная зачем, с какою целью, вряд ли понимая, что за смысл вкладывала она в свои слова, — быстрым, настойчивым шепотом спросила:
— Если придут красные, останетесь?
— Останусь, теперь останусь, — ответил Никита.
— До свиданья! — крикнула она, словно в беспамятстве…
Встреча произошла в осеннюю стужу, ветер был злой, степь дула на город предзимьем, но Варваре Михайловне стужа обернулась оттепелью, день затеплился солнцем, и мартом потянуло из степи. И так пошло: ноябрь — апрелем, декабрь — маем, снега — как молодые травы, и бураны — как весенние дожди, и треск морозов — слаще пенья птиц…
По ночам стала слышна канонада, орудия звенели в морозе железом об лед; осетры похаживали по ятови, поднимались на шум; лед ломало, шум возрастал; осетры били хвостами; лед рвался, железо звенело в трещинах; осетры кучились в великое множество, пилами спин царапали лед; тогда в трещины, в проруби, в ямы просовывались багры и подбагренники и распарывали осетрам животы.
Начиналось последнее великое яицкое багренье: сыны артельно багрили и подбагривали в яицкой ятови кровных отцов. А у Варвары Михайловны шла весна: и впрямь ведь ломало лед! Со звоном, скрежетом бушевал на Урале, над ятовью, неудержимый ледолом.
И вот сначала прошла молва, что город собираются сдать, потом город стал набухать казачьими полками, сотнями, обозами, как набухает каша в печке, потом начал пустеть, опустошаться, пока не наступил последний час.
В этот час у Шерстобитовых горячкою горела работа.
Ни в один торговый день не случалось на дворе такой кутерьмы из саней, долгуш [44], верблюдов и разномастных лошадей; ни на одну ярмарку не вывозилось таких гор товаров; ни разу на воздвиженье — в капустный-огуречный праздник — не выкатывалось столько кадок, кадушек, бочек и бочонков. Закручивали, вязали, забивали гвоздями, перекачивали насосами, пересыпали, перекладывали, утрясали, мяли, стягивали, зашивали; тянули, волокли, катили бочки, кадочки, мешки, рогожи, ящики, тюки, кули; громоздили, наваливали воза, вьючили обросшие шерстью верблюжьи горбы; уставляли рядком на долгих санях запертые замками сундучки, сундуки, сундучищи.
За воротами выстраивали подводы в длинный обоз, верблюдов — в унылую, ровную цепь каравана.
Палатки стояли настежь, двери кухни, магазина, жилой половины мотались, взвизгивали, стучали поминутно.
Михаил Гаврилович молчаливо поглядывал на кутерьму, товары, тысячи пудов товаров привычно и послушно повиновались его молчанию, его иконописному, тишайшему бесстрастию. Он кашлял изредка, тогда от одного воза приказчики бросались к другому, а Михаил Гаврилович отворачивался в сторону, точно смущенный правильно понятым бессловесным своим приказанием.
Все меньше и меньше оставалось вокруг Евдокии Петровны мамок, теток, нянюшек. Сашеньки, Настеньки, Силиверстовны разбегались, прятались по щелочкам, норкам, от страха, от греха, от ответа, натаскав, наворовав себе по палаткам и кладовушечкам полотна, платков, шелков да тряпок, про запас, про черный бабий день. Только две-три круглых дуры — косоротые да косоглазые — топтались над сундуками, с причитаньями вынимали из киотов иконы, завертывали их в скатерти, салфетки, полотенца.
Евдокия Петровна добрейшими своими синими глазами, сквозь слезы, жалеючи смотрела на опустевшие комнаты, в изнеможении от толщины и усталости присаживалась в кресло, но тотчас подымалась и впопыхах совала в сундуки ножи, ложки, подушки, одеяльца, драгоценности и мусор вместе, только бы побольше насовать, побольше взять с собой.
Наконец не оставалось уже ни одной минуты, медлить стало нельзя (да и не увезти было всего с собою): обозы, караваны товаров и всякого добра тронулись в путь — в снега, в пустыню, за Урал.
К подъезду подали вместительный возок, бог знает откуда вырытый, похожий на свадебную карету елизаветинских времен — с дверцами, с кожухом над высокими козлами, с подножкою позади кузова, на полозьях. Поверх возка поместили иконы, увязанные в скатерти, огляделись, зашли в комнаты, присели кто на чем мог, помолчали, поднялись, и Евдокия Петровна, колыхаясь от одышки, сказала через силу:
— Ну, одевайся, Варюшенька, закутывайся получше, храни тебя матерь божия. Поди, я тебя перекрещу.
Варвара Михайловна подняла к груди руки, сложив их крестом, и спросила:
— Все готово? Собрались?
Она вдруг побледнела, рванулась к матери, точно падая, и быстро, сдавленно проговорила:
— Благослови меня, мамочка. Счастливой вам дороги. А я… я остаюсь.
Евдокия Петровна вскинулась, часто затрясла руками над головой, в ужасе отмахиваясь от дочери, и, как была, с открытыми глазами, застланными слезами, не вскрикнув, упала навзничь.