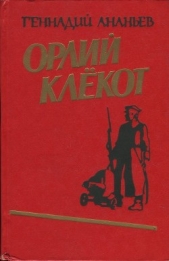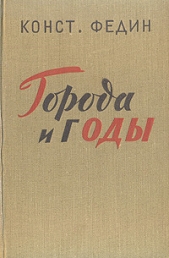Города и годы. Братья
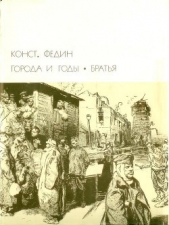
Города и годы. Братья читать книгу онлайн
Два первых романа Константина Федина — «Города и годы», «Братья» увидели свет в 20-е годы XX столетия, в них запечатлена эпоха великих социальных катаклизмов — первая мировая война, Октябрьская революция, война гражданская, трудное, мучительное и радостное рождение нового общества, новых отношений, новых людей.
Вступительная статья М. Кузнецова, примечания А. Старкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тогда зерно в его груди, прораставшее желанием строя, равновесия, гармонии, вдруг полностью и пышно раскрылось. Должно же было жить в Никите сознание, отличавшее его от мальчугана, которого впервые посадили верхом на лошадь!
О, он не только хотел найти выражение своим чувствам! Он был исполнен силы, чтобы сделать это!
И вот ощущение избытка этой силы, восторг обладания ею толкнул Никиту с новым приливом вперед.
С того момента, как он пришел в сад, его преследовали, ни на секунду не отступая, звуки. Он приближался к ним, они обступили его плотнее, ближе, и теперь он находился в их средоточии: лука ревела, завывала, бурно неистовствовала над его головой.
Самая мощная волна звуков катилась на уровне человеческого роста. Она определяла собою ритм бурного движения. Стволы гудели, попеременно ослабляя и усиливая напор прекрасно связанных и ясных звучаний. Где-то в вершинах деревьев, в сплетении тончайших веток гнездились струнные оркестры, согласно обменивавшиеся завершенным мотивом, повторявшие его на разной высоте, бесконечном разнообразии тембров. И еще выше, к суровой, холодной пелене серого неба, над деревьями, над лукою плыла охватывающая, всепоглощающая звуковая ясность. Никита услышал эту верхнюю музыку лишь тогда, когда понял, что вокруг него бушевал не лесной шум, а стройное, расчлененное на тысячи инструментов единое согласие. И эта верхняя, покрывавшая собою весь хор музыка, едва уловимая, кристаллическая ясность четко выражала мысль величайшей из песен, какую мог себе представить Никита.
Он увидел все здание, вздыбленное над землею осенним ветром. Оно было совершенно. Десятки, сотни оркестров складывали его, воздвигали в единую и единственную симфонию, и последняя наивысшая часть симфонии творилась, создавалась перед лицом Никиты.
Он кинулся бежать. Как в детстве, его хлестали, били, жгли острые сучья, длинные жгуты хмеля. Ему хотелось, чтобы боль была нестерпимой, чтобы холод, опалявший его лицо, пронзил ему грудь. Он распахнулся, поднял руки, закрыл глаза. Сквозь веки просвечивали метавшиеся в нагромождении красные, огненные круги.
Вдруг он увидел себя за высоким пультом. Он шире распахнул руки, взметнув ими, как крыльями. Музыка покорно повиновалась ему, взбираясь на страшную высоту, захватывая, подчиняя себе все большее и большее пространство. Колонны зала раскачивались перед ним в учащающемся темпе. Темп рос неудержимо, переходя в пляску, в смятение огненных языков.
Никита дирижировал в колонном зале. Колонный зал сотрясался невиданным оркестром. Дирижер исступленно бил крыльями, крылья несли его. Вдруг он обернулся к слушателям и крикнул изо всей силы:
— Пожар! Пожар!
Тогда тысячи людей бросились к выходам, колонны закачались в огненных, красных кругах. А дирижер развел своими крыльями над человеческими криками, над пламенем пожара, и крики, пламень, корчившиеся в огне инструменты послушно соединились с могучей ясностью невиданного оркестра, и дирижер мчался по зарослям ревевшей, бушевавшей луки дальше и дальше.
Внезапно что-то ударило Никиту в поднятые руки. Он открыл глаза. Громадный сук тянулся над его головою, поперек пути.
Никита ухватился за него, подтянувшись на руках вверх всею тяжестью тела, и всею тяжестью тела, придавленного оборвавшимся суком, рухнул на землю.
Музыка рвалась и взвивалась в высоту.
И тогда Никита испустил бессвязный, продолжительный крик, как дикарь, как мальчишка.
Он лежал на спине, прижатый тяжелым корявым суком, руки его ныли от боли, и усталая, неподвижная улыбка на лице была блаженна, как у безумца.
Дыхание становилось ровнее, биение сердца медленно приближалось к обычной неощутимой беззвучности, но боль в руках засела прочно, и в ней сосредоточилась вся музыка, собравшись в крупицу, как огромные объемы воздуха, сжатые в каплю жидкости.
Он понес эту крупицу с благоговением, точно в ней таилась живая вода и сохранить ее стало целью всей его жизни. Печальное безлюдие степи, когда он вышел из садов, показалось ему счастливым предзнаменованьем: он шел своим путем в одинокой замкнутости, переполненный силой. Так он готов был идти до конца, в смерть или в новое рожденье — не все ли равно? Он мог обнять весь мир — такая мощь была заложена в крупице музыки, которой он обладал, — он готов был обнять первого встречного, чтобы осчастливить его одним прикосновением.
Так встретил и окликнул он Варвару Михайловну. И правда, довольно было услышать его голос, чтобы — так же, как Никиту, — ее охватило волнение. Он улыбнулся чужой улыбкой, сквозь которую все еще просвечивало безумие, он с нежностью и жаром поцеловал Варваре Михайловне руки. О, он был щедр! Он был уверен, что обаяние его силы распространялось нерушимо.
Что мог он сказать Варваре Михайловне?
— Останусь, теперь останусь!
Может быть, потому, что он встретил ее?
Нет, он никуда не собирался уходить, ему некуда было идти, он достиг наконец возможности завершить свое дело, и с радостным нетерпением он спешил за него взяться.
Он не ошибся: источник, питавший его воображенье, неиссякаемо бил на родине, там, где он впервые увидел мир, где возникали и забывались первые противоречия любви и жестокости. И он мучительно хотел вознаградить эти камни, деревья, дома, весь этот убогий и милый клочок земли, вознаградить созданием, достойным их расточительности. Он наделял бессловесный, жалкий степной оазис волей и великодушием, он чувствовал себя должником яблоневых садов, тихого, стоячего Чагана, сгнившего крыльца у избы Евграфа, путаных зарослей луки.
Он думал о родном, о повелевающей силе родного, о том, что созданное человеком создано преемством, и, если сын имеет уши, он должен слышать голос камня, положенного отцом. Это и есть родина — голос камня, положенного отцом, — и счастлив тот, кто его слышит.
Тогда Никита мечтал о будущем своей родины — крохотного клочка земли, отмеченного булавочной головкой на карте большой, великой родины. Клочок будет одушевлен воспоминаниями множества людей, прикосновением их мысли, подобно тому как одушевлены тысячи других столь же ничтожных и великих клочков земли. Да, да, так творятся культуры.
Именно здесь, на берегу Урала, вблизи садов, чувствуя трепет их ветвей, Никите хотелось окончить работу. Он уже видел последний лист партитуры своей симфонии, с датой в конце и пометкой — Нижний Уральск. На расцвеченной большой карте Азии (Никита поселился в городском доме, в комнате, где прежде жил Ростислав, и стены комнаты по-прежнему были украшены Африками и Азиями разных масштабов), на повороте длинной волнистой черты Урала, Никита знакомо находил одинокий кружочек и подолгу глядел на стройную надпись: Нижний Уральск. Такая надпись будет стоять в конце партитуры, когда исполненную на многих концертах симфонию награвируют в нотопечатне. Никита улыбался этой наивной мысли, но продолжал мечтать о своем труде с детским восхищеньем.
Важно было сохранить в себе силу недолгих и редких минут, которые наступали с такой внезапностью и потом непременно сменялись упадком. В холодной, расчетливой сдержанности выслушивать накопленные памятью впечатления, выверять их ценность, отбрасывать и снова брать: в этом заключался труд.
Многие листы, написанные Никитой раньше, теперь оказались негодными, и он выбросил их с чувством облегчения, как хлам, который сберегался из косной привычки. Другие он переигрывал по десять раз, иногда случайно заглянув в законченную часть симфонии, и с радостью прочитывал страницу за страницей, до конца.
Концертный рояль упирался острием крыла в большое окно. Никите виден был город и неподвижные пространства степи, сливавшиеся в огромном отдалении с небом. В нижнем этаже каревского дома жизнь шла как будто обычным чередом, ничто не вмешивалось в обособленный мир Никиты, и мир этот расцветал, оттачивался, как кристалл, грани которого медленно обнажает мастер.
Но ясная прозрачность степей, простиравшихся за окном комнаты, постепенно мутнела. Бураны завьюжились несметными снеговыми воронками и пеленами, степь исчезала за белой стеною, подступившей к окну, просторы суживались до маленькой комнаты, окруженной снежной бесконечностью. Морозы сковывали город, и вместе с ним сжимались непонятные, невидимые тиски беспокойства, о которых никто не хотел или не мог говорить.