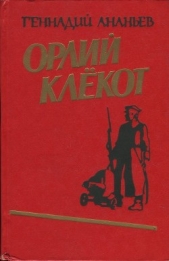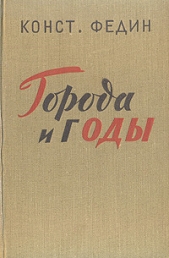Города и годы. Братья
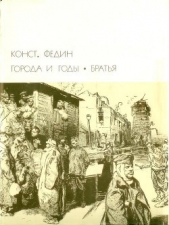
Города и годы. Братья читать книгу онлайн
Два первых романа Константина Федина — «Города и годы», «Братья» увидели свет в 20-е годы XX столетия, в них запечатлена эпоха великих социальных катаклизмов — первая мировая война, Октябрьская революция, война гражданская, трудное, мучительное и радостное рождение нового общества, новых отношений, новых людей.
Вступительная статья М. Кузнецова, примечания А. Старкова.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да, из казаков.
— Та-ак. Много ль служил?
— Я не обучен.
— Какой же бывает казак не обучен?
— Горазд чудно, — засмеялся кто-то, — вроде девки.
— Иногородний, — убежденно решил другой.
Черноглазый допрашивал:
— Братья есть?
— Есть.
— В войску?
— Старший — доктор.
— А младший — красногвардеец? — вдруг хитро подмигнул и осклабился черноглазый.
— Говорят.
— Сам быдто не знаешь?
— От Василь Леонтьича отстал, выходит? — спросил звонкий голос откуда-то сверху.
Никита поднял-глаза. На печи сидел казак, очень широкий в плечах, с маленькой, наголо остриженной головой, с лицом, оплетенным путаной круглой бородой в проседи, как в плешинках. Он чем-то сразу напомнил Евграфа, но только на одно мгновение.
— Да. А вы знаете отца?
— Василь Леонтьич меня лет пять кряду обсчитывал, как я ему гурты с Бухары гонял. Небось узнаешь!
Казаки засмеялись, крепыш опять подмигнул черным глазом и спросил:
— Что теперь делать, а?
— Что дадут, то и ладно, — звонко сказал широкоплечий. — Может, мне, старику, пимы полатает, у меня пятка вывалилась, а вижу я плохо.
Он, правда, стащил с ноги разбитый валенок и спрыгнул на пол. Он был очень высок, сильно горбился, голова его не шла к нему, точно ее сорвали с другого, низенького человека и посадили ему на широкие сухие плечи.
— Ну-ка, — сказал он, подавая Никите валенок, и звонкий его голос тоже был странен, как будто в неприятном, как у циркового борца, теле сидел по-настоящему веселый и простой человек.
Никита, ни слова не сказав, вышел из горницы.
— Не нравится? — расслышал он в сенях, и зычный хохот казаков встряхнул дом.
Весь день Никита ходил по форпосту, отыскивая подводу, с которой можно было бы уехать следом за Василь Леонтьичем. Но в поселке не оставалось ни одного городского человека, за ночь и поутру караваны ушли в степь, форпост обратился в военный лагерь.
Война была уже не под окном, а вот здесь, рядом, она затянула Никиту тесным поясом, и он впервые разглядел вылезающие из орбит бесцветные ее глаза, услышал лязгающий сталью голос. Сейчас этот голос напевал о том, как провалился под ятовью лед и в прорубь попали дерзкие супостаты, с баграми и подбагренниками; о том, что настала пора осетрам посмеяться над рыболовами; что обложена ятовь казачьим вольным войском и пришел конец красным охотникам — будут их пытать мором и гладом, пока не сдадутся они на милость. По великому казачьему войску объявлена была осада Уральска.
Вечером в горнице Никита встретил только одного знакомого — черноглазого крепыша. Тот быстро расчистил ему местечко около стола и налил кружку чаю. На полу казаки уже укладывались спать.
— Ты, видно, музыкант? — спросил черноглазый, как будто между прочим. — Я давеча твой багаж смотрел… так просто… для верности… У тебя там одна эта цифирь наложена… крючки. Я у староверов видал, только твоя быдто чуть помельче…
— Да, я музыкант.
Казак вытащил из-под стола мешок и засунул в него руку.
— На-ка, вали, — ласково и тихо пробасил он, подмигнув горячим глазом и протягивая Никите гармонь-однорядку.
— На гармони я не умею.
— Не можешь? — переспросил крепыш.
Он сокрушенно помотал головой и с боязнью пиликнул на дискантовом ряду.
— И я не могу, — вздохнул он. — А гармошка просится, чтобы играли. Я ее третьёводни на улице в Уральске подобрал, когда красных гнали. Так и была в мешке. Видно, кто из коммунистов посеял, гармошка с украшеньем.
Он снова боязливо пиликнул, потом спрятал гармонь в мешок и задумался.
— Жалко мне тебя, — вдруг сказал он, не глядя на Никиту, словно говорил сам с собою.
Он уложил Никиту подле себя. Но не успели они задремать, как в комнату ввалилась толпа казаков.
— Потеснись! Дай место! Растянулись! — кричали они, переступая через спящих и тормоша их ногами.
Спустя минуту все в доме содрогалось от гама и возни. Каждый отстаивал свое право на место руганью, криком, кулаками.
Над Никитой вырос широкоплечий казак с маленькой, точно чужой головою и звонким голосом. Он выкрикнул в ожесточенном нетерпении:
— Ты что тут, в шубе, развалился? Вставай!
Нагнувшись, казак схватил Никиту за плечо, и он увидел над собою злобные белые искры узких, как у кошки, зрачков. Маленькая дрожащая голова была готова сорваться с широких плеч и упасть на Никиту.
Он не помнил, вскочил ли сам или его оторвала от пола сухая, длинная рука чудовища. Он был мгновенно оттиснут к двери, и тотчас широкое плечо казака, мелькнув над головами, выбросило снизу согнутую в локте руку, и ранец, завертевшись под потолком, догнал Никиту и вышиб его в сени тяжким ударом по спине.
Никита был на дворе.
Он надел ранец, застегнул шубу и вышел за ворота. Мороз был очень силен. Теплота дыхания ощутимо застывала на лице, стягивая небритые губы и щеки упругой коркой.
Никита стоял неподвижно. Он точно отделился от себя и в эту минуту мог вынести себе любой приговор. Он увидел тупое бессмыслие всего, что с ним случилось. Он не знал, когда и где утрачено им самообладание. Он не признавал своих поступков, и они казались ему достойно завершенными тем, что люди, не имевшие права ни на один его волос, вышвырнули его за порог. Он больше не дорожил собою и схватился за последнюю надежду вовсе не потому, что хотел спастись, но только по упрямой природе надежды: он двинулся с места и пошел влево по улице, туда, откуда большая дорога вела в город.
Никита скоро вышел из поселка, и степь опять поглотила его. Однажды его нагнал какой-то казачий разъезд. Но в это время навстречу подвигалась колонна пеших солдат, и они, в темноте, долго распутывались с верховыми, не желая сворачивать с дороги и загребать неумятый снег сапогами. Никита стоял тем временем в стороне, по колено в снегу, прикрытый ночью. Он не испытывал ни страха, ни колебаний. Мороз подгонял его, остановиться передохнуть было нельзя.
Когда начал брезжить рассвет, Никита вошел в побережную полосу леса, в урёму. Тут долго еще держалась по кустам темень, и под ее защитой идти было спокойно. Перед восходом солнца еще раз встретился разъезд, и Никита отсиживался в кустах, пока не смолк вдалеке топот копыт. К этому часу изредка начала мелькать сквозь лесок крутая излучина Урала — густо поросшая лука, за которой лежал город.
И вот в туманно-розовом низком солнце, курчавый, как овчина, от утренних дымков, на поверхности снега выдвинулся осажденный Уральск. Он покоился, мирен и сонлив, ничто не напоминало в нем о войне, он словно звал идти к нему безбоязненно и открыто.
Но полсуток непрерывного хода вдруг смяли Никиту приступом изможденья. Он почувствовал приторную тошноту, ему захотелось сесть. Он заставил себя пробраться сквозь урёму и выполз на открытый берег.
Снег на реке был взборонен сотнями человеческих ног, следы пестрели и мешались с глубокими колеями от санных полозьев. Здесь только что прошла война.
Наискосок через реку, в какой-нибудь версте, видны были плоские домишки пригорода. Ближе к Никите, на полпути до города, посредине реки торчали, как грибы, невысокие, в рост человека, будки. Самая ближняя, видно, была слажена и поставлена недавно, снег не успел ее запорошить.
Никита собрал остатки воли и потащился через реку. На неровных вдавлинах снега он все чаще оступался, ноги отказывались служить, он почти падал, когда наконец добрался до будки.
Это была сижá — игрушечная хибарка, плетенная из тальника, с крышей, оконцем и дверью. Казаки ставили такие плетенки на льду, для зимней ловли рыбы, но Никите не приводилось прежде видеть их близко. Снег вокруг сижи был хорошо вытоптан, тропа вилась по льду, к берегу, в город.
Подойдя к хибарке, Никита увидел за углом приземистого человека с жердинкою в одной руке и топором в другой. Никита дрогнул от неожиданности, он был уверен, что сижа рыболовами брошена.
Кто мог засесть тут, в этой будке, рукой подать от города, только что занятого красными?