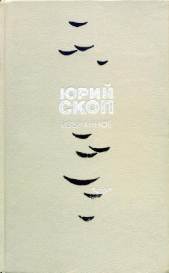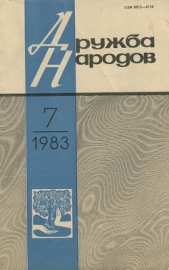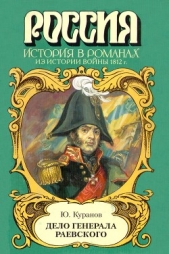Избранное
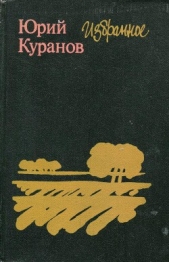
Избранное читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
ГУБЕРНАТОР ПАНАМЫ
Гелька ходит или в рубашке без штанов, или в штанах без рубашки, но никогда не ходит раздетый. А пуще того не снимает он свою белую панаму. Надо видеть, как храбро разгуливает он повсюду, от собственного огорода до самых дальних колхозных покосов. Перепачкана ли рожица черникой, покусаны ли ноги крапивой, походка его не теряет врожденной невозмутимости.
Глядя со стороны, мы поначалу прозвали его флибустьером, что на языке матросов времен великих географических открытий значит — морской разбойник. Феерически громыхающее незнакомое слово сделало Гельку еще горделивее. Даже когда старший брат Ленька содрал с него рубашку да, взявши за пятки и затылок, стал приучать к нырянию. «Ой, какая холодная водичка!» — кричал флибустьер совершенно отважным голосом.
В лесу Гелька всегда впереди. В раскинувшихся папоротниках мелькает только белая панама. Исчезает и появляется она быстро, а покачивается на ходу важно, словно целую страну несет Гелька на голове. Тут мы и прозвали его — Губернатор Панамы.
«Губернатор Панамы осматривает джунгли!» — шутит Ленька. А по выражению лица Гелькиного я вижу, что он действительно и флибустьер, и индеец, и губернатор, и что его Панама — самая сказочная страна на свете, а папоротниковые заросли — настоящие джунгли.
Ведь и я, и я когда-то бегал по «африканским саваннам» Омской области, ранним утром выходил с «арбалетом» на берега робкой сибирской речушки Оши, которая прорезала мощным течением «всю Бразилию» и уносила мои корабли прямо в «Атлантический океан».
Я несказанно доволен тем, что этот ушастый цыпленок Гелька воскресил совсем рядом со мной великолепный, но уже недоступный для меня мир.
Да, если теперь меня позовут снежные вершины, то найти я их смогу только высоко в горах.
ЛУНА ПОД КОСЯКОМ
С горы к хутору ехал рыжий малый на белой лошади. Через плечо у этого рыжего малого висела желтая гитара.
Я выглянул в окно.
Рыжий малый увидел меня, радостно замахал руками и закричал какие-то веселые бестолковые слова.
Я выбежал из дому. Спрыгнул с полатей Алексей, малый соскочил с лошади, мы все обнялись и вошли в избу.
Пока мы громко, не слушая друг друга, выкладывали новости, пока Алексей таскал из-за печки и расставлял вдоль стен свои пейзажи, мимо хутора в деревню Черновляне проехала телега с баянистом Анатолием Николаевичем, с певицами и танцорами, с узлами реквизита.
Мы пили чай перед распахнутым в жаркое лето окном, вскакивали, принаряжались на ходу, снова пили чай и все говорили, говорили, не слушая друг друга.
Вскоре мы с Алексеем шагали по лесной разморенной дороге в те самые Черновляне, а впереди на белой лошади ехал рыжий Саша Худяков с гитарой.
Вслед за нами той же дорогой уже топали из Починка и Трошинцев ребятишки в кепочках и чистых рубашках, пропахших ветром, старухи в платочках и чистых, пропахших сундуками, платьях. С других хуторов и с дальних покосов по другим лесным и полевым дорогам в Черновляне шли парни и женщины в пропотевших кофточках и майках, и мы слышали, как они смеялись и пели вдалеке.
А сами черновляне уже сидели на бревнах и в траве возле старой школы, грызли семечки и рассуждали, почему артисты приехали без Худякова.
Саша появился, народ поднялся и вслед за ним направился в старую школу.
Спускались сумерки, и в школе уже было темно. Кто-то притащил керосиновую лампу, прибил ее гвоздем к стене, и при красном покачивающемся свете фитиля сразу стало казаться, что на улице ночь.
Сцены не было да и зрительного зала тоже не было. Парты давно уже увезли в новую школу в Калиновку, и люди просто сидели на полу, а перед ними стояли «артисты».
Я никогда не смогу позабыть этой простенькой обстановки выездных деревенских спектаклей. Я не люблю ходить в филармонию, мне тесно, мне не по себе в огромных залах консерваторий. Эти бесконечные покашливания во время музыки, эти демонстрации туалетов в антрактах, эти заученные позы исполнителей, эта рвущаяся перед концом спектакля толпа в гардероб — все убивает во мне ощущение музыки, настороженности восприятия, и у меня всегда остается горькое чувство торопливости, как во время вспыхнувшего, но мгновенно погасшего фейерверка.
Но здесь, среди этих непритязательных куплетов и самодельных плясок, я слышу, как замирает сердце каждого сидящего на полу или стоящего на сцене.
Выходит парень читать Твардовского, выходит разухабисто, решительно, а сам смертельно побледнел, и дрожат пальцы, и нервно поправляет воротник. Люди уже десять раз слушали эти стихи, но все полны внимания и, может быть, больше, чем слушают, волнуются — не собьется ли чтец.
Мне помнится, в Спасском клубе я попробовал читать Бёрнса. Я прочел стихотворений восемь, но со сцены не отпускали, а требовали еще. Я ответил, что больше не помню его стихов.
— А ты вспомни, — крикнул кто-то.
Я сказал, что припоминаю одно стихотворение, но могу сбиться.
— Давай.
— Собьешься — вспомнишь. Подождем.
Я начал читать «Финдлея» и в середине чтения забыл целую строфу.
— Вот видите, я же говорил, что собьюсь, — сказал я, запнувшись.
Люди молча ждали, когда я припомню.
— Не вспомнить, — сказал я и развел руками.
— Читай дальше, — сказал из угла тракторист, — в другой раз вспомнишь.
И я прочел «Ночлег в пути». Те самые стихи шотландца, которые один ретивый педагог в какой-то газете обзывал произведением скабрезным. Ни одной скабрезной улыбки, ни одного многозначительного вздоха; двести человек сидели в тесных сумерках бревенчатого клуба, охваченные родниковой красотой человеческой доверчивой любви и скромной откровенности поэта.
Между тем Худяков давно уже на «сцене». Публика сохнет от смеха, люди прячут лица в подолы, отворачиваются, чтобы хоть чуточку передохнуть.
Худяков тоже волнуется, и я это вижу. По-моему, он даже немного выпил для храбрости. Как странно, этот любимец местной публики, хорошо знающий, что любое его выступление будет принято, тыщу раз певший, плясавший, декламировавший в клубах, на площадках, на токах, среди хуторов, всякий раз до раздражительности нервничает перед каждым выходом.
Сейчас он в красном парике. Зачем ему этот парик? Неужели он и без того не медный… Как и всякий рыжий человек, рыжим он себя, видимо, не считает. Он больше доверяет парику. Он поет куплеты на местные темы. Куплеты наскоро состряпаны нами у Козлова. Он поет про нечистого на руку бригадира Николая Бабушкина и делает независимое, гордое лицо, как будто он ни разу в жизни ни у кого даже копейки не занял. Потом Саша поет про ленивую доярку. У него двигаются только рот да кадык, все лицо его спит, спит беспробудно, сладко, мертво.
Вдруг он ввертывает какую-то местную традиционную частушку, и ноги Сашины мгновенно мякнут, плечи подаются вперед, будто кто держит его за руки и не дает плясать.
Потом Саша будет читать Есенина, читать мягко, добрым тихим голосом, лицо станет тоже тихим, сердечным, широким. Саша будет говорить о роще и о журавлях, пропадающих в сумерках ветреного неба, с ласковостью человека, вдали вспоминающего о матери.
Я выхожу из комнаты в коридор. Луна светит в широкое выставленное окно. Луна светит из-за леса. На окне сидит девушка. Свесив ноги, склонив голову, она слушает чтение. Ее белое длинное лицо спрятано в сумерки, и только заметно, что она глубоко дышит и брови ее чуть вздрагивают. В белых волосах девушки мглится свет, и похоже, что это не луна светит в темный бревенчатый коридор. У косяка стоит приезжий комбайнер с Кубани, он смотрит на девушку, но подойти не решается.
После концерта Саша, Козлов и я уходим прежней дорогой в Трошино. Леса ослеплены луной. В чащах только чувствуется тревожный лесной мрак, и трепещет каждый лист, словно вслушивается в чье-то дыхание.
Саша молчит. Он шагает устало. За лесом, у Черновлян, играет баянист Анатолий Николаевич, там сегодня танцы. Козлов срывающимся, почти плачущим голосом торопливо говорит о том, что нет сил, не хватает целой жизни, чтобы рассказать красками о всем этом неслыханном блеске лунной ночи, которая только сегодня единственный раз пришла, а завтра будет другая, и эта уже никогда не вернется.