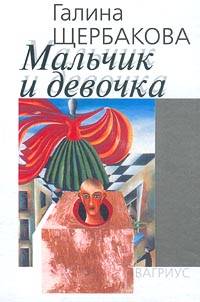Волга-матушка река. Книга 2. Раздумье

Волга-матушка река. Книга 2. Раздумье читать книгу онлайн
Роман «Раздумье» — вторая книга трилогии «Волга-матушка река» советского писателя Федора Панферова.
В центре романа — развитие сельского хозяйства в первые послевоенные годы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— На, не признающий медицины. Сын. Осторожней только… не раздави. — И, увидав Елену, захлопотала: — Еленушка… Беги в больницу… камфары, шприц… Я уж раз впрыскивала камфару Аннушке. Удивляюсь, как малярия сильно сердце ей подпортила. — Присев на стул, она уронила руки, сказав: — Устала… Самое тяжелое в нашем деле — принимать ребенка: железной надо быть, чтобы не содрогаться от стона и крика роженицы. Иди, Еленушка, в больницу. Анну на носилках отправили сюда. Мы их обогнали на околице.
Елена быстро вышла из домика, а Иван Евдокимович как остановился посредине комнаты, так и стоял, точно врытый.
— Посмотрите на сына-то, академик, — приказала Мария Кондратьевна.
Академик приоткрыл простынку и, увидев маленькую головку, сморщенное розовое личико, подивился тому, что это со временем станет взрослым человеком… малюсенькое такое. И осторожно передал сверточек Марии Кондратьевне.
— Возьмите, пожалуйста… а то и в самом деле как бы нечаянно не раздавить. — Передав ребенка, Иван Евдокимович отошел к окну и, то ли потому, что человечек оказался таким крошечным, то ли от долгого ожидания конца родов весь задрожал, ощущая, как озноб с ног перешел на грудь, потом на затылок…
И вот из-за поворота показались сначала расширенные ноздри лошади, затем выплыла голова, шея, потом грудь, передние ноги. А вон и Петр, сидящий на этом самом коне. Следом за конем показались носилки, а на них Анна.
Иван Евдокимович стремительно кинулся встречать и, споткнувшись о коврик, чуть не расстелился на полу.
— Не торопитесь, академик! — прикрикнула Мария Кондратьевна, принимая от пришедшей Елены шприц, камфару, флакончик со спиртом и готовясь немедленно же сделать укол роженице…
С крыльца Иван Евдокимович увидел Анну, прикрытую легким одеялом. Она лежала на носилках ногами вперед, потому он видел и ее лицо. Оно было бледно, глаза прикрыты, а губы обтянулись синим ободком.
«Намучилась, бедняжка! Ну, ничего: отойдет. Зато у нас сын. Уж этого мы будем воспитывать не так, как моего шалопая», — вспомнил он о своем сыне, бездельнике и пьянчужке.
А носилки с Анной уже на крылечке.
Иван Евдокимович посторонился, успев, однако, погладить жену по щеке, и немного удивился тому, что щека холодна и ни один мускул на лице жены не дрогнул от прикосновения его руки.
Когда носилки с Анной поставили в комнате, Мария Кондратьевна проговорила:
— Принесли? Спасибо. А теперь оставьте нас… Воздух нужен матери. Воздух. — В эту минуту из свертка раздался писк ребенка. Мария Кондратьевна повернулась к нему: — Вишь ты, голос подает. Преждевременный.
Члены садоводческой бригады и Вяльцев молча покинули домик, но как только вышли на улицу, все разом заговорили, особенно Вяльцев. Этот, перебивая всех, кричал:
— Ого-го! Потомство академика у нас в селе народилось. Молодчина Анна Петровна! Ой, молодчина! А ты вот, Елька, все яловой ходишь.
— Что я тебе, корова, что ль? — огрызнулась та.
— Корова не корова, а яловая. Гляди, ускользнет Петр, точно сазан из слабых рук. Старой девой хочешь остаться? Ну, и высохнешь, как вон Мария Кондратьевна.
Услыхав эти слова, Мария Кондратьевна, словно под ударом кнута, втянула голову в плечи, на миг застыла, держа в правой руке смоченную спиртом вату — готовилась протереть руку Анны перед уколом. Затем скрепилась, высвободила руку Анны из-под одеяла. Рука почему-то очень тяжелая и безжизненно холодная. Мария Кондратьевна снова на миг окаменела, затем приложила ухо к сердцу Анны… и, выронив смоченную спиртом вату, приподняла веки Анны — из-под них глянули застывшие глаза.
— Мертва, — еле слышно проговорила Мария Кондратьевна, побледнев.
Елена, Иван Евдокимович, да и Петр усмехнулись, а академик тоном шофера проговорил:
— Шутите, товарищ начальник.
— В пути умерла, — не слыша слов академика, прошептала Мария Кондратьевна.
Тогда все стихли, склонились над Анной, еще не веря доктору. Но не верить было уже невозможно: перед ними лежала мертвая Анна.
Академик снова склонился над женой, со всей силой вглядываясь в ее лицо. Оно было спокойно, даже с розоватым румянцем, только синие ободки губ да прикрытые глаза вызывали смутную тревогу. Но вот он приложил ладонь к ее щеке — она холодна, как мрамор в стужу… И академику показалось, что от него отрезали половину. Вот так — были двое в едином, и Анну отрезали… Он обеими руками вцепился в свою голову, отнял их и, тупо глядя на клочки седоватых волос, торчащих в зажиме пальцев, зашагал из комнаты, роняя на пол волосы. Выйдя из домика, он двинулся вдоль улицы, сам не зная куда.
Сгущалась ночь — темная, как сажа. И накрапывал дождь.
Иван Евдокимович шел и шел, раздвигая перед собою руками, словно перед ним был непролазный камыш.
Шел и шептал:
— Вот и пусто… Вот и пусто…
Весть о смерти Анны Арбузиной вначале не ошеломила Акима Морева.
— Да не может быть, — сказал он Петину.
— Телеграмма. Лагутин подписал.
Аким Морев еще и еще раз перечитал телеграмму. Да, из Разлома. Да, подписался Лагутин. Да-да. «Анна Петровна Арбузина скоропостижно скончалась». Что за нелепость? Аким Морев протер глаза и снова перечитал телеграмму. И только теперь до его сознания дошло, что смерть Анны — факт, как факт и то, что канал затоплен разжиженным песком… И вдруг эти два нелепых события так ударили по сердцу секретаря обкома, что он опустился в кресло, и Петин увидел, как его глубоко сидящие глаза расширились и, казалось, полезли из глазниц. И вот лица уже нет… только одни огромные, серые, с золотистыми крапинками глаза, наполненные ужасом.
— Аким Петрович! Валидолу? — встревожено спросил Петин и уже потянулся было к телефону.
Аким Морев махнул рукой, давая знать, что сердечные капли не нужны.
— Позвоните Лагутину… проверьте все-таки, — чуть погодя еле слышно проговорил он.
— Звонил. Проверил. Подтверждает.
— Ах, Петин, Петин, — Аким Морев хотел еще сказать: «Почему не смягчаешь удар?», но промолчал, сказал другое: — Вызовите Опарина… Пожалуйста… об этом, — он взял телеграмму, потрепал ею, — ни звука. Сам скажу.
Петин вышел.
Вскоре в кабинет вошел Александр Пухов, явно подосланный Петиным. Всегда грубовато насмешливый, он, как это ни странно, в тяжелые часы находил теплый, дружественный тон. И тут, обняв за плечи Акима Морева, произнес:
— Ну!.. Аким! Друг ты мой! Бывает. Всякое бывает. Смерть вообще штука нелепая, а преждевременная… Черт бы ее побрал.
— Да-а, побрал бы, — глухо вымолвил Аким Морев. — Ах, Саша… Саша… Сколько препятствий на пути к хорошему… Анна Петровна только что начала жить по-настоящему. Видел я ее во время последней поездки. Цвела, как могучая груша… и вот… Что там с Иваном Евдокимовичем-то?
— Ехать тебе туда надо, Аким, — настойчиво посоветовал Пухов.
— Конечно, конечно, — Аким Морев заспешил, точно в самом деле собирался ехать, но остановился, посмотрел куда-то поверх Пухова. — Нет… Это будет жестоко… для Ивана Евдокимовича. Я ведь самый близкий свидетель их счастья: видел его в первые дни влюбленности, не раз беседовал с ним об этом, видел потом в семейном кругу, видел недавно. Он готовился стать отцом, она — матерью. Нет. Пусть поедет Опарин.
— Маркыч? Пожалуй: он и в великой беде умеет обаятельно улыбаться, — проговорил Пухов, не отходя от Акима Морева и не снимая руки с его плеча, думая: «А ты пошатнулся… и это, милый мой, никуда не годится. Ведь этим Анну Арбузину не вернешь».
— Вы как, Александр Павлович? — переходя на обычный деловой тон, заговорил Аким Морев. — Сдали дела Николаю Степановичу?
Александр Пухов убрал руку с плеча секретаря обкома, ответил:
— Что сдавать? У меня же никакого хозяйства нет. Посидели вчера, поговорили, рассказал я ему, как и что. Пока — всего боится. Сказал ему: помогу на первых порах, а там валяй сам. Любимое слово Маркыча в ход пустил: «валяй», — говорил Пухов, стараясь шутить и шуткой смягчить беду, вдруг свалившуюся на них. — Валяй, говорю, Николай Степанович. Где не осилишь — на подмогу зови меня или Акима Петровича. А Сухожилин и не явился. Пришлось мне одному принимать его аккуратный стол, с аккуратно разложенными бумагами, аккуратными шторами на окнах. Так что, все в порядке, Аким Петрович.