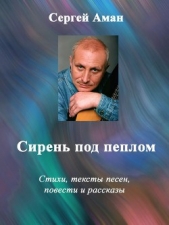Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень
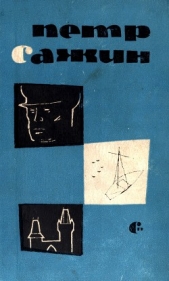
Капитан Кирибеев. Трамонтана. Сирень читать книгу онлайн
В книгу Петра Сажина вошли две повести - «Капитан Кирибеев», «Трамонтана» и роман «Сирень».Повесть «Капитан Кирибеев» знакомит читателя с увлекательной, полной опасности и испытаний жизнью советских китобоев на Тихом океане. Главным действующим лицом ее является капитан китобойного судна Степан Кирибеев - человек сильной воли, трезвого ума и необычайной энергии.В повести «Трамонтана» писатель рассказывает о примечательной судьбе азовского рыбака Александра Шматько, сильного и яркого человека. За неуемность характера, за ненависть к чиновникам и бюрократам, за нетерпимость к человеческим порокам жители рыбачьей слободки прозвали его «Тримунтаном» (так азовские рыбаки называют северо-восточный ветер - трамонтана, отличающийся огромной силой и всегда оставляющий после себя чудесную безоблачную погоду).Героями романа «Сирень» являются советский офицер, танкист Гаврилов, и чешская девушка Либуше. Они любят друг друга, но после войны им приходится расстаться. Гаврилов возвращается в родную Москву. Либуше остается в Праге. Оба они сохраняют верность друг другу и в конце концов снова встречаются. Для настоящего издания роман дополнен и переработан.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я съездил в порт. Назад возвращался пешком. Слободка была пустынна и тиха: рыбаки еще не вернулись с промысла. На улицах привольно купались в пыли куры да изредка навстречу попадались дородные хозяйки, возвращавшиеся с позднего базара. На берегу у прибрежной воды хлопотали гуси и утки, копошилась детвора. Мальчишки, вырвавшись из–под материнского глаза, облепили колхозный причал, как воробьи плетень. Я подсел к ним и стал наблюдать за тем, как они ловко таскали из моря бычков–хрусталиков. Они брали добычу «на поддев», то есть примерно так же, как на севере ловят треску. Этот способ немудрящий: опускают крючок с грузилом на дно и ведут лесу сначала тихо, а потом рывком вымахивают крючок из воды. Глядишь, а на нем извивается тупорылый, усатый, вымазавшийся под цвет донного песка, лупоглазый дурачок.
Но меня интересовало не это. Я попросил у одного из парней удочку и тоже попробовал взять бычка «на поддев», чтобы проверить, легко ли он отрывается от дна. Дело в том, что бычок имеет на брюхе вместо плавников присоски (видоизмененные плавники), с помощью которых он присасывается к грунту, да так крепко, что его не в силах оторвать даже штормовая волна! Кто из жителей приморских городов и селений не видел, как во время шторма волна перекатывает многопудовые камни, разбивает причалы, обрывает толстые якорные канаты? Картина в приморском городке весной или осенью обычная. Иногда шторм наносит столько вреда! Но многие ли знают, что в то время, когда у набережной рычит и колотится яростная волна, тут же у берега на дне неподвижно лежат присосавшиеся к грунту жалкие с виду рыбешки…
Я ловко подцепил бычка. Очевидно, он не ожидал над собой такого насилия и поэтому не держался за спасительный грунт. Тем более, море было как зеркало и в нем купалось небо с реденькими облаками.
Я возвратил парню удочку и пошел домой. Я шел медленно и все озирался по сторонам. По пути заглянул в чайную, затем прошел «до Гриши», посидел немного на опрокинутой вверх килем калабухе у детского пляжа. Увы! Галинка не встретилась мне.
Стало смеркаться, пора было возвращаться домой спать, и я уже собрался идти, когда увидел ее. Она шла к морю. Сердце мое словно упало и замерло. Сколько я ждал этого момента! У меня уже было все продумано и что и как я скажу ей, а теперь все куда–то улетело, никаких мыслей, никаких слов, ну, ничего.
67
Домой я возвращался полный ощущения какого–то необычного счастья. Нет, я не говорил с Галинкой, не держал ее руку в своей, не смотрел ей в глаза… Почему же тогда я говорю о счастье? Я видел Галинку, да так близко, что слышал ее дыхание. Я хотел сказать «здравствуйте», как принято говорить всем, даже незнакомым, в сельской местности и в рыбацких становищах, но в последний момент потерял смелость.
Так прошли мы мимо друг друга. Я долго смотрел ей вслед. Она шла легко, словно не касалась ногами земли. Я стоял на берегу до тех пор, пока Галинка не скрылась в проулке. Она ни разу не оглянулась.
Подходя к калитке, я услышал шум в хате: Данилыч ругался с женой. Только я хотел от калитки повернуть к берегу и переждать, пока мои хозяева исчерпают все аргументы друг против друга, как вдруг услышал слова Данилыча, которые остановили меня.
— Жаба ты! Кулачка проклятая! — шумел он. — Как же ты смела спросить у Лексаныча деньги? Да я ж с ним не за деньги пошел в море! Теперь шо он обо мне думает, га? Ты подумала об этом! Или, быть может, ты меня спрашивала, брать или не брать деньги? Сейчас же отдай! Сама отдай! Слышишь? Не отдашь, так я твой сундук куркульский в щепы искрошу, изничтожу, как нечисть проклятую. Поняла?
— Не отдам! — прокричала она. — Мои деньги! Мне, не тебе даны, голоштан окаянный!
Я не знаю, чем бы все это кончилось, если б я не вмешался; Марья уже заорала благим матом «караул!», когда я подошел к хате.
Мы легли спать лишь в одиннадцать часов — три часа длились семейные дебаты, и кончились все на том, что Марья, всхлипывая и жалуясь на свою горемычную судьбу и вспоминая отца, который, если бы был жив, показал бы «голоштану окаянному», долго рылась в сундуке и наконец вышла из спаленки и со злостью швырнула деньги на стол и ушла в летнюю кухоньку, где она спала, когда было слишком жарко или в те дни, когда ругалась с Данилычем.
Она долго плакала и причитала о своей горькой судьбинушке. Мне, признаться, даже стало жалко ее.
Деньги остались на столе: я категорически отказался брать их обратно, а Данилыч ни за что не хотел, чтобы он или его хозяйка брали их с меня. Он говорил, что никогда не поклонялся деньгам и «доси живет не для денег». Деньги лежали на столе и в четыре часа утра, когда я уходил в порт.
Данилыч встал, чтобы проводить меня. После ссоры с женой он чувствовал себя неловко, будто это не Марья, а он был виноват во всем. Выставив на стол бутылку вина и стаканы, он предложил выпить за мою поездку в Керчь. Я отказался. Он вздохнул и сказал:
— Эх, Лексаныч! Шо–то сердце у меня болить. Ну так болить, так болить…
Я показал на бутылку и сказал:
— Вот отчего.
— Нет, — возразил он, — не с того… Пойти бы и мне с тобой в Керчь и даже еще дальше: куда–нибудь в Индийский океан… иль на какие там острова… Тяжко мне одному оставаться… Привык я к тебе… И нравится мне эта работа, жизнь новую смотришь, большим человеком становишься, быдто на двух ногах ходишь. А ты, Лексаныч, с Керчи вернешься и сразу в Москву? А может, сходим к Бирючей косе? От там богацкая жизня! Птицы — на миллион!.. Лебедь, когда на зиму у Египет летить, у нас останавливается: на Обиточной и на Бирючей косах. Бывает, шо зима мягкая, так той лебедь силу экономить, в Африку не летает, прохлаждается у нас до весны. Расчетливая птица. А кефаль там какая! Да шо говорить! Райские места!
Он вздохнул.
— Шо ж, дело твое — не мое… Не можешь — тут ничего не сробишь. Но ты, Лексаныч, там, в Москве–то, море наше представь в полном виде: ничего не отбавляй, скажи, шо, мол, народ тут такой, крикни, шо морю помочь нужно, — все пойдут, даже бабы, про ребятишков и говорить нечего… Ну, заговорил я тебя. Попутный тебе ветер, Лексаныч!
Он «хлопнул» стаканчик, и мы вышли на берег.
Утро только–только глаза продирало. Море, как и вчера, стояло тихое и такое гладкое, словно отполированное. Но сегодня над ним широким фронтом нависли пышные, белые как кипень облака, отчего оно было удивительно живописно! Но в то же время в нем чувствовалась какая–то скрытая сила, достигшая как будто предельного накала и готовая, кажется, вот–вот разразиться.
— Ну, — сказал Данилыч, внимательно оглядев море и небо, — будет такая полундра, шо небо покажется с овечью шкиру… Либо твой, Лексаныч, пароход проскочить, либо ты нахлебаешься на целый год!..
Заметив мое смущение, он сказал:
— Шо ж, кто в море не бывал, тот досыта богу не маливался. Такая наша судьба: через ветер ли, через волну ли, а моряк — все вперед! Вот боюсь я за наших рыбаков: они ить план по бичку сделали и еще перевыполнение дали на шестьдесят процентов. Мыкола Белов перший. От хлопец! Ну, пойдем, Лексаныч, провожу тебя до причала.
Когда мы подходили к причалу, рассвет уже набрал силу, и мы увидели, что море будто только и ждет команду, чтобы кинуться очертя голову на берег.
Мне стало страшно не только за себя, но и за рыбаков Слободки, которые в этот момент были, очевидно, на переходе.
Перед мысленным взором возник капитан Белов с его неизменной трубкой, усами, с тяжелым подбородком, белыми, выгоревшими на солнце волосами и голубыми глазами.
Задумавшись, я не сразу расслышал, что говорил Данилыч. А он, поняв, что я не расслышал его слов, закричал:
— Гляньте, гляньте! Наши идут!
Я посмотрел на море и на горизонте, под гигантской подушкой белых облаков, увидел суда.
Обгоняя нас, к морю спешили жены, матери и дети рыбаков. Когда мы подошли к причалу, тут уже стояло десятка два женщин. Кутаясь в теплые шали, с сонным выражением на лицах, они гудели, как пчелы.