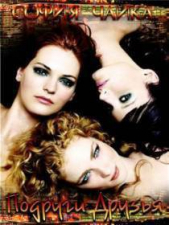Год - тринадцать месяцев (сборник)

Год - тринадцать месяцев (сборник) читать книгу онлайн
Анатолию Емельянову присущ неиссякаемый интерес к жизни сел Нечерноземья.Издавна у чувашей считалось, что в засушливом году — тринадцать месяцев. Именно в страшную засуху и разворачиваются события заглавной повести, где автор касается самых злободневных вопросов жизни чувашского села, рисует благородный труд хлеборобов, высвечивает в характерах героев их высокую одухотворенность.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А что касается птицы, правительство позволяет держать ее гражданам столько, сколько душа пожелает.
Но сильное впечатление произвело не это, а точное знание указа, его номер, число и кто подписал.
Карликов тут сразу угас, потому что он ничего не мог противопоставить Чирепу, а тот уже опять сидел в уголке тихий и скромный, как мышка.
Мне, правда, он тоже не внушал особых надежд, и когда я хотел дать ему какое-нибудь поручение, он так тонко прикидывался дурачком, таким простодушным дурачком, что я сам и спешил взять свои слова обратно, думая: «Ладно, обойдемся».
И вот на этом собрании он выскочил. Поднялся, бочком протиснулся к сцене, стал этак потупившись и плаксиво, жалостно заговорил при полной тишине:
— Я, конешно, не против хозяйственного расчета… Я, конешно, как коммунист… Мне по уставу положено открывать путь всему новому и, конешно, разному передовому опыту. Тут, конешно, разные мысли имеются у людей, только высказать стесняются, боятся, что на этом хозрасчете обманут нас, то есть, конешно, людей, и опять на деньги переведут…
Мы с Бардасовым с недоумением посмотрели друг на друга, и у него был такой вид, будто его ударили обухом по голове, да и у меня, видимо, не лучше, а в зале между тем уже что-то такое зарождалось.
Раздались крики:
— Не нужен нам никакой хусрасчут!
— Опять нас хотят обмануть!
— Хыркасинский комиссар нашептал!..
Врт что пробудила в душах людей эта простодушненькая, жалконькая речь Чирепа!
Бардасов гремел во всю мочь поддужным колокольцем, однако этот звенящий певучий гром тонул в реве и гвалте зала.
Наконец Бардасов опустился на стул, он так сжимал и давил колокол о стол, что у него побелела вся кисть. И шум в зале стал опадать. Но нет, вовсе не потому, что Бардасов сел, — между рядов пробирался к сцене сам Казанков! Я глядел на него в каком-то отупении, в каком-то параличе сознания и воли. И вот он заговорил:
— Хозрасчет, товарищи и граждане, штука вообче-то хорошая, хотя Нина Карлик и объяснила не совсем вразумительно. Но мы ведь не какие-нибудь не читающие газет и журналов чуваши, мы читаем и все знаем…
Зал, с минуту назад бушевавший так, что, казалось, обвалится крыша, притих так, что когда Казанков покашлял в кулак — к-хэ, к-хэ, то повисла даже какая-то невероятная тишина.
— Вот, товарищи и граждане (при этом он почему-то значительно обернулся на нас, на президиум, точно граждане — это мы были, а товарищи — там, в зале). Здесь ясно одно… — И опять значительная пауза. — Одно ясно. Первое. — Он поднимает руку и на виду у всех загибает большой палец. — Для перехода на хозрасчет колхоз еще не окреп экономически. Второе. Партком не объяснил как следует ни коммунистам, ни народу. Третье. — Тут пауза еще дольше. — Третье, товарищи! Хозрасчет, как в народе говорится, это за чужой счет или, если объяснять поглубже, какая от него простому трудящемуся польза? Для трактористов и ферменских и польза, а простому трудящемуся колхознику — одна видимость. Я все сказал, — тихо промолвил Казанков и с каким-то даже поклоном, а потом важно и степенно, высоко вскинув голову, пошел на свое место, навстречу овациям, которые до меня докатывались уже ропотом, шумом, криком.
— К черту хусрасчут!..
Впервые в жизни я испытал тут какой-то необъяснимый страх. Страх этот описать невозможно. Страх перед тьмой, перед темной ночью, перед кладбищем, на котором могут мерещиться всякие призраки и вспоминаться ужасные сказки, все эти дьяволы, ведьмы, лешие, страх этот ничто перед тем, что я испытывал здесь, за столом президиума, перед этим собранием. Ужас мой был еще и в том, что я глубоко, каким-то своим нутром понял свою бессмысленность и неуместность сейчас любого разумного слова.
И мне еще подумалось: «Неужели из этой тысячи не найдется ни одного человека, в ком бы голос разума взял верх? Где Гордей Порфирьевич? Где Михаил Петрович? Где этот «нукальщик» Петр Яковлевич, готовый дневать и ночевать на ферме ради благополучия своих телят? Где Генка? Но никого не было, никого! Не может быть! Это дурной сон, кошмар!..»
Не знаю, что пережил бедный Бардасов, десять лет своей жизни отдавший вот этим людям, вытащивший их из нужды и долгов!.. Не знаю, о чем он думал в эту минуту, но вот он поднялся, руки у него дрожали, и этими дрожащими, неуверенными пальцами он, словно слепой, нашарил на красном сатине листок бумаги и так, волоча его, прошел к трибуне и стал что-то писать.
Шум и гвалт начал опадать, свертываться где-то в самых недрах его чрева.
Но вот Бардасов закончил писать и смотрит в зал, а зал — на него.
— Вы все знаете, как я работал, — начинает Бардасов голосом странно спокойным и отрешенным. — Десять лет я не знал, что такое отдых, что такое воскресенье, отпуск, по курортам не ездил, в санаториях не бывал. Хорошо ли работал, плохо ли, но всем угодить невозможно. Одному сделай добро величиной со стог, он завтра забудет об этом. Другому сделай неприятное с проси́нку, он помнит всю жизнь. Нынче вы все получили по трудодням столько, сколько не получали никогда. 3 колхозе нет голодных, разутых или раздетых. Сыты и одеты и учатся в школе все дети. На счету колхоза в банке есть двести пятьдесят тысяч рублей. А еще два года назад колхоз был должником, и вы это тоже знаете. И если вы считаете, что Бардасов руководил хозяйством плохо, если вы не верите ему, а верите Чирепу и Казанкову, пожалуйста… Вам, знать, надоело видеть снег белым, пожалуйста, считайте его черным, как советует Казан1-ков. А что касается хозрасчета, который вы не хотите принять, скажу одно: не Чирепу, не Казанкову мы собирались платить больше, а тем, кто хорошо работает и желает работать еще лучше. А как работают они, вы хорошо знаете. Но вы не хотите принять такое условие. И я понимаю это только как недоверие ко мне. Поэтому сегодня же выбирайте нового председателя, а с меня хватит. А заявление — вот! — И Бардасов поднял над головой лист бумаги.
Потом он осторожно положил его на стол президиума, спустился со сцены и в глухой тишине пошел к двери, и мужики, сидевшие на полу в проходе, поспешно отодвигались с его пути. Только слышится шарканье председательских чесанок, будто старик идет, едва волоча ноги. Вот дверь открылась и тихо затворилась. Все головы в зале оборотились туда и теперь в молчаливом удивлении глядели на дверь. Может быть, они решили, что председатель стоит за дверью и ждет, когда они одумаются и позовут обратно, и он сразу же войдет?
Что делать мне? С каким бы удовольствием я убежал сейчас следом за Бардасовым!..
А Михаил Петрович, сидящий за другим концом стола, делает мне какие-то знаки. О чем он? Просит слова. Пожалуйста.
— Слово имеет главный бухгалтер колхоза «Серп»…
— Поправочка, товарищи, поправочка! — робким голоском выкрикивает Михаил Петрович. — На счету в банке не двести пятьдесят тысяч, как сказал Яков Иванович, а двести пятьдесят три тысячи и триста двадцать пять рублей!..
Но никто, видимо, не понимает его.
— Что? Где! Какая поправочка? Двадцать пять рублей? Где?..
И Нины, которая только что сидела здесь, за столом президиума рядом со мной, нет. Куда она делась? Ушла, убежала… За мной, ссутулясь, прячется ольховский бригадир, потерянно сидит, опустив голову, самый почтенный наш тракторист Алексеев, к нему жмется доярка Шустрова Лена, совсем девочка… Нет, они не помощники теперь. И вот я уже решился подняться и говорить. Я не знаю, о чем буду говорить, не знаю еще тех слов, но я скажу не о хозрасчете, нет, я скажу, что только злые и неблагодарные люди, у которых помутился разум, так могут себе вредить!..
— Комиссар! Эй, комиссар, дай-ка мне сказать!..
Голос женский, и это неожиданно как-то, странно.
Однако очень он мне кажется знакомым, какие-то неприятные воспоминания роятся во мне, разбуженные этим голосом. Я еще не могу разглядеть женщины, которая идет к сцене, идет смело, на ходу разматывая платок, плюшевая черная жакетка блестит в свете электрических лампочек. Резким движением сдернула наконец платок с головы, сбились на сторону черные волосы, сверкнули холодно и остро черные глаза — Фекла! Фекла из Тюлеккасов! «Что будет!» — с ужасом мелькнуло в голове. Но уже поздно: Фекла стоит за трибункой!