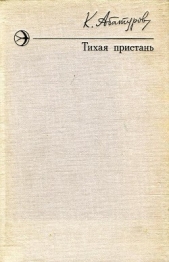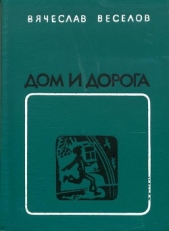Провинциальный человек

Провинциальный человек читать книгу онлайн
Верность земле, избранному делу, нравственная ответственность человека за свои помыслы и поступки — вот основные темы новой книги курганского прозаика, лауреата премии Ленинского комсомола, автора книг «Последние кони», «Пристань», «Поздний гость», «Избранное», «На вечерней заре» и др.В сборник вошли новые произведения, а также ранее увидевшие свет в уральских и столичных издательствах.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Провинциальный человек
Верность земле, избранному делу, нравственная ответственность человека за свои помыслы и поступки — вот основные темы новой книги курганского прозаика, лауреата премии Ленинского комсомола, автора книг «Последние кони», «Пристань», «Поздний гость», «Избранное», «На вечерней заре» и др.
В сборник вошли новые произведения, а также ранее увидевшие свет в уральских и столичных издательствах.
Издается к 50-летию автора.

ПОВЕСТИ
Ожидание моря
1
Море издали еще лучше, чем вблизи. Вблизи оно печальное, хочется подняться над ним и забыться. Часто кажется, что оно живое. Особенно это заметно утром, когда тишина и солнце.
Эта история тоже случилась у моря. Но вначале была дорога. Ах, какая это была дорога! И если б Катю тогда спросили, сколько дней везет ее поезд, сколько лет ей, как зовут ее город, оставленный так радостно и внезапно, она б улыбнулась — и только. Не хотелось ни говорить, ни думать. А в окно виднелось другое небо, чем дома, и чудесные города в садах, и река Кубань в желтых водах, и веселые люди с корзинками и узелками, — и все это кричало, вертелось и застилало глаза. А к ночи настигал запах фруктов, еще ранних и сладко дурманных, а потом — ночь и мгла в окнах, и стук колес, к ночи нервных и будоражных, и весь вагон оживал по-другому: в коридоре шептались очень громко и откровенно, в купе у солдат бренчала гитара, рядом с ней звенели стаканы, а в перерывах возникал женский голос, то умоляющий, то сердитый, но быстро исчезал, пропадая в шуме, — а Катя лежала на верхней полке, полузакрыв глаза. К ночи у нее всегда оживало сердце — билось толчками, и приходило удушье. Но теперь, в дороге, боль отступила. Катя щурилась на синий верхний фонарь и представляла море. Оно никак не давалось. С нижней полки смотрел на нее парень. Катя про это знала, но парень не привлекал, забывался. Он вошел в вагон час назад и не сказал ни слова. В очках, с пухлыми губами и полной шеей, он походил на подругу Симу. И это воспоминанье рассмешило Катю. По вечерам подруга купалась в бассейне, а с утра раздумчиво жевала конфеты, конфеты, все время конфеты и думала о далеком. За эту отрешенность от быта и нравилась Кате.
Парень сдвинул очки кверху — и опять взгляд на нее. Она разозлилась, глаза сощурились, немножко хитрые и чуть злые:
— Сима, сходи за водой.
— Что вам? — очнулся парень, но Катя смеялась, уже жалея его и прощая.
— Во сне я... Поди, задремала. Как пить хочется!
— Позвольте, но я схожу...
— Позволю... — Опять смеялась, в груди стало легко и просторно.
— Хорошо! Прекрасно... — сказал он весело и уже развязно, чувствуя, что Катя двинулась, наконец, навстречу, и теперь только б не спугнуть ее, не обидеть, а это он знает, умеет, — и сразу настигло веселье, и он запел. Его голос стоял уже в конце коридора, а Кате вдруг стало стыдно, нехорошо от предчувствий. Она прижалась в угол и обмахнулась платком.
Возвратился он быстро, подал стакан со значением и, когда подавал, метнул глаза на кофту в тот вырез, где начиналась розовая кожа.
Кате сделалось гадко, она чуть не вскрикнула, но удержалась.
— Не дури, Сима, — сказала она утомленно, прикусив губу.
— Меня зовут Миша, — проговорил парень, но сразу замолчал, осекся, поняв внезапно тайный смысл ее слов и намека.
— Вот так, Миша... — опять сказала чуть слышно Катя, и подбородок его обиженно дернулся, и погасли глаза.
И сразу отвернулся в угол угрюмо, оцепенело, но вот в зрачках его опять мелькнула решимость, и вздрогнула голова.
— Вы похожи на мою сестру. Она красавица...
— А я нет! — засмеялась Катя, а он медленно опустился на полку, слабо чувствуя, что проиграл ей. Но быстро нашелся:
— Вы в Крым впервые?
— Впервые... — ответила грустно и тихо Катя и закрыла глаза.
— А мне приходилось, и не жалею.
— Надо же, все видели море... — снова тихо сказала Катя и длинно вздохнула.
— Море? Что море... Просто вода. Синяя вода. Да и та отлиняла.
— Вы там девушек целовали? — засмеялась неожиданно Катя и вцепилась в него глазами.
— Девушек? — переспросил он чуть слышно, мгновенно трезвея и ругая себя.
Долго катал сигарету между двух пальцев, потом закурил и закашлялся вежливо, правдоподобно, порываясь выйти, но Катя не отпустила:
— А я еще не целовалась. Знаете, даже ни с кем. Это плохо? — спросила она с откровенностью, шальной и мстительной, какая бывает всегда у больных.
— Не верю, не ве-рю, — пропел он чуть в нос и засмеялся, думая, что она снова идет навстречу, но Катя замолчала. Вспомнила дом и прислушалась к сердцу.
2
Сердце болело ночами. Вздрогнет, сожмется и снова вздрогнет, а потом — боль, немеют ладони и — страх смерти, такой близкой, возможной, что выступали слезы. Подойдет мать и положит грелку. Грелка на груди бесполезна и раздражает, но Катя молчит, терпит, чтоб не обидеть мать. К ней она относилась бережно, с нежной грустью. Мать в ответ только поглядывала в глаза и жалела молча, не надеясь на слова утешенья: в них Катя перестала верить.
Мать жить не умела. С рожденья робкая, уставшая от ранней бедности и забот, Стеша и с дочерью не выказывала характер, да и была перед ней в вечном долгу. Катю сносила без мужа в томливом горе, среди стыда, сплетен. Да и любви не было, был человек случайный, которому уступила из жалости, думая — теперь он изменится и станет добрей. Но он не изменился, даже совсем уехал. После него не осталось ни имени, ни фамилии, ни фотографий. Будто и не жил вовсе на свете. А может быть, замучили его грехи где-нибудь на чужой стороне и сжили со света. Иначе зачем бы прятаться, не писать писем, да и все равно бы дочка — живая кровь — притянула.
С дочкой жизнь засияла. Нравилось теперь гулять по базару, по магазинам, покупать для Кати рубашки, чулочки, нравилось купать ее в белом глубоком корыте, нравилось во сне видеть, а потом вспоминать, рассказывать об этом в автобусе, на работе и после ждать еще лучшего — совсем особенных, единственных дней. Катя росла быстро, но вырастала больная. То ли простудилась где, то ли судьба наказала Стешу за лишнюю простоту и слабость. Но в болезнь Стеша не верила, не хотела верить: «У молодых-то какое сердце, ничего у них нет». Но по ночам не спала, ревела и все сжимала в кулаки мягкие исхудавшие груди, думая, что это они обкормили Катю плохим молоком. В больнице признавали сердце и астму с рожденья. Но в школу Катя ходила, только в классе ее не очень любили. Может, боялись ее прямых, навязчивых глаз.
А по ночам Катя слышала, как ходит возле кровати смерть. И когда сильно стучало сердце, а в груди таяла холодная льдинка, она верила в близкий конец и в холод могилы, но думала об этом спокойно, привычно и пробовала писать стихи. Хотелось доверить им самое тайное, еще не слова, но уже молитвы, но оказалось, что боится отдать им это тайное, и стихи стали скучны для нее. Пробовала и другое. В школе девчонки сшивали большие альбомы и собирали туда артистов — красивых и белозубых, в ослепительных свитерах и рубашках. Собирала и Катя. Но потом стало казаться, что у всех у них жирно подкрашены губы — и у мужчин, и у женщин, — и сразу погасли эти зубы, улыбки, а сами портреты, их глянец и аккуратность вызывали в ней злобу и тошноту. Она боялась, что девчонки узнают про эти мысли и засмеются, потому продолжала клеить артистов в толстый черный альбом. В эти минуты часто подсаживалась к ней Стеша, и Катя боялась ее спугнуть. Мать поглаживала ладонью какого-нибудь артиста и обещала Кате Москву и Черное море, и новые платья, и подарки, и особенного врача, который сделает ее навечно здоровой. Она входила в азарт, забывалась, у нее краснели щеки, а глаза молодели, и Катя тоже отвечала улыбкой, а мать и не знала, что дочери тяжело. Так постепенно научилась жить тройной жизнью: одна — для школы, другая — для матери, а самая последняя — для себя. И об этой последней, самой тайной, далекой жизни, никто не знал, никто к ней не прикасался. Только мать в душе чего-то боялась. А может, это был простой страх слабости перед большой дочерью, живым человеком. Но когда Катя засыпала, у матери появлялась решимость. Стеша подходила к кровати, наклонялась над спящей и говорила тихо, чуть слышно: «Господи, в кого ты, девка, — ни рожи, ни кожи, а туда же, с секретами. И что ты надумала, чего мне натворишь?..» Но голос звучал не грубо, а ласково, и была в нем тихая гордость: «Живи, мол, дочка, спи-высыпайся. Хоть и подшиблена, а других-то получше». Если Катя нечаянно просыпалась — мать отводила глаза. Или бралась за шитье — ты-де спишь, а я шью, тебя караулю.