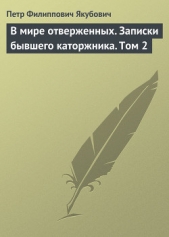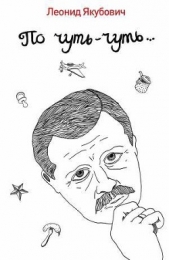В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1
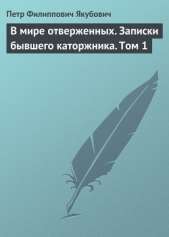
В мире отверженных. Записки бывшего каторжника. Том 1 читать книгу онлайн
Среди литературы, посвященной царской каторге второй половины XIX века, главным образом документальной, очерковой, этнографической, специальной (Чехов, Максимов, Дж. Кеннан, Миролюбов, Ядринцев, Дорошевич, Лобас, Фойницкий и др.), ни одна книга не вызвала такой оживленной полемики, как «В мире отверженных». В литературном отношении она была почти единодушно признана выдающимся художественным произведением, достойным стоять рядом с «Записками из мертвого дома» Достоевского. Сам Якубович, скромно оценивая свой труд, признавал, что его замысел сложился под влиянием замечательного творения Достоевского.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я заметил даже слезы у него на глазах и перестал убеждать.
— Это все штуки ихнего муллы Сафарбаева, — сказал мне один русский, слышавший наш разговор, — он запрещает им учиться по-русски.
Я отправился немедленно к Сафарбаеву, молодому еще сарту, который лучше других шелайских магометан читал по-арабски и знал Коран, почему и считался среди них муллою, и прямо задал вопрос: не по его ли совету Маразгали не хочет учиться русской грамоте? Мулла, рассмеявшись, объяснил мне, что магометанский закон не запрещает никаких наук и языков, и обещал, с своей стороны, поговорить в этом смысле с Маразгали. Но вскоре случилось новое размещение арестантов по; камерам, и Маразгали очутился неожиданно моим сожителем и соседом. Сближение наше произошло после этого очень быстро, и мы сделались друзьями.
Сожителем Усан был незаменимым, веселым, всегда вежливым и услужливым. Все арестанты его любили и резко выделяли из остальной массы магометан, не пользовавшихся в большинстве симпатиями; да и сам Маразгали стоял как-то в стороне от них, редко подходя к их кучкам и невнимательно вслушиваясь в гнусливое чтение муллы из священной книги. Он вообще не умел долго сосредоточивать внимание на одном каком-либо предмете. Когда я снова предложил ему обучаться русской грамоте, он с радостью согласился, объяснив прежнее свое нежелание тем, что очень меня боялся и, считая себя почему-то неспособным, думал, что я буду за это сердиться… Умея читать по-арабски, он скоро усвоил русскую азбуку и склады, даже научился довольно правильно писать те слова, которые я ему диктовал. Но, увы! плохое знание русского словаря не позволяло ему понимать прочитанное, и этим сильно охлаждалось рвение к ученью. Для того же, чтоб скоро научиться говорить по-русски, ему бы нужно было совсем не жить в одной камере с татарами, а этого почти никогда не случалось. В конце концов он так и не научился правильно говорить, хотя читал и писал недурно.
Вскоре я обстоятельно узнал его грустную историю.
Он был родом из Ферганской области, из окрестностей города Маргелана, где родители его занимались земледелием и разведением фруктов. В самый город они изредка ездили по торговым делам. Семья, состоявшая из отца, матери и двух сыновей, жила очень дружно. Родителей огорчал только старший сын Марасил, научившийся пить водку и играть в кости. За это Норбюта Маразгали, отец Усанбая, часто жестоко бил Марасила, но тот не унимался. Скоро он вошел в долги, которых чтец не хотел уплачивать, и однажды ночью киргиз, которому Марасил проиграл в кости значительную сумму, подкрался к их жилищу, схватил лучшего коня и поскакал в степь. Норбюта, однако, заметил покражу, разбудил сыновей, и все трое верхами помчались в погоню за похитителем. Они догнали его подле самой его деревни, и Марасил первый свалил противника с ног ударом кистеня по голове. Маразгали-отец отрубил ему голову шашкой. Усанбай клялся и божился, что сам он не бил киргиза, а ограничился тем, что подал отцу шашку; впрочем, он вполне одобрял убийство и, когда начинал с ним спорить, — полушутя, полусерьезно говорил:
— Зачем жить такой человек, Николяичик (так называл он меня, не умея выговорить «Николаевич»; арестанта Канаревича, жившего в нашей же камере, он называл Канарейчиком)? Вороват, карты, играйт… Зачем жить?
— Да ведь и Марасаи в карты играл?
— Марасаил помир… Бог наказил его.
— А ты сам, Усанбай, никогда не пробовал играть?
— Пробоваль, Николяичик, говорил он смущенно, виноватым голосом, — раз пять рублей кости прииграль… дорога шел… Алгачи тоджи раз карты руп проиграль…
— Нехорошо, Усан!
— Да я так, Николяичик… Я не умей… Черт знайт! Ничего не умей карты!
Когда убийство совершилось, начиналось уже утро, и убийц видел проезжий киргиз. Норбюта с сыновьями был вскоре арестован и осужден: сам он на пятнадцать лет каторги, Марасаил на десять, а Усанбай, как несовершеннолетний, на два года. Без слез не мог он вспомнить сцену прощания с матерью, которую, видимо, страстно любил. Да и сам он был ее любимым сыном. Кто-то из арестантов похвалил однажды волосы Маразгали, несколько вьющиеся и черные, как вороново крыло, с синеватым отливом. Он оживился и стал рассказывать, как дома у него, по обычаю их религии, вся голова была бритая, только на макушке оставался длинный локон-оселедец.
— Мат оставил, мат, — говорил он об этом локоне, — глинный, глинный, вот такой… Ах, как мат плакаль — прощался, лицо себе царапил, в кров царапил, кричал… Ах, как он кричал, мат!..
И каждый раз, подойдя к этому месту рассказа, он замолкал, спешил уткнуться носом в подушку и там глубоко вздыхал… Сильное душевное волнение, радостное или горестное, он выражал также комичным прищелкиванием языка.
В партии Маразгали было тридцать два человека узбеков, сартов и киргизов, конвойных же солдат всего лишь восемнадцать. На третьем или четвертом станке от города Верного, где происходила дневка, замышлен был побег. Конвой, ничего не подозревая, уставил ружья в козлы в той же камере, где были арестанты, и уселся играть в карты; только за дверями стал один часовой. По условию, Норбюта Маразгали с криком «Алла!» должен был кинуться на этого часового и обезоружить его, остальные должны были захватить ружья и перебить конвой. Норбюта так и сделал — с криком «Алла!» обезоружил и умертвил часового; но остальные девятнадцать человек, бывшие в заговоре, в решительную минуту, очевидно, дрогнули и, не захватив ружей, кинулись врассыпную бежать, куда глаза глядят. Побежали в том числе и Усанбай с Марасилом. Конвой, опомнившись, выскочил из этапа и начал стрелять в беглецов, Норбюта был тут же, у порога этапа, поднят на штыки. Беглецов затрудняли тяжелые кандалы, висевшие у всех на ногах; кусты были не близко. Только троим удалось скрыться; остальные шестнадцать все были перестреляны и переколоты. Усанбай был ранен в ногу и упал; но когда выстреливший в него солдат подбежал и хотел заколоть его штыком, он поднялся на ноги и отнял ружье. Между ними завязалась отчаянная рукопашная схватка, в которой Маразгали так больно прохватил зубами руку солдата, что тот с криком убежал прочь. Но тут подоспели другие конвойные и штыками и прикладами прикончили его. Так по крайней мере сами они думали. По словам Маразгали, он больше суток пролежал в беспамятстве, а когда очнулся на вторую ночь, то сообразил, что над телами убитых стоит часовой и что малейший стон может его погубить. Шестнадцатилетний мальчик, тяжелораненый, умиравший от нестерпимой жажды и боли, имел силу воли не издать ни единого звука, не сделать ни одного движения до тех пор, пока еще через сутки не приехал из Верного доктор и не стал свидетельствовать убитых. Только тут Маразгали простонал и пошевелился. Но даже и тогда озверевшие солдаты кинулись к нему и, наверное, добили бы, если бы не доктор. Избиты были даже и те двенадцать человек, которые не делали попытки к побегу и все время оставались в этапе. Вместе с ними Маразгали отвезен был в Верный и помещен в лазарет; а тем временем, пока он болел и поправлялся, военно-судная комиссия судила его и, приняв во внимание несовершеннолетие и увлекающий пример отца и старшего брата, прибавила восемь лет каторги…
Выздоровев, Маразгали опять был записан в партию отправился по старой дороге. На третьем станке, где происходил побег и где были убиты отец и брат, он так горько плакал, что возбудил сострадание даже конвоя, старший (тот самый, что был и в тот раз) подошел к нему и сказал:
— Моли бога, Маразгали, что нет здесь кой-кого из тогдашних солдат! Они и теперь еще прикончили б тебя… Зачем ты бегал?
— Я плакаль и ничего не мог говорийть. Старший жалель меня и говорийт: «Пойдем, Маразгали, могила смотреть, где Норбюта и Марасил лежат». Я пошел. Ах, сколько я плакаль! Я взял тряпочка земля сыпайт… та земля, где отец лежит… и всегда ее тут носийт.
И Маразгали показывал мне мешочек, висевший у него на груди, в котором был зашит драгоценный песок.
Часто, лежа на нарах с заложенными под голову руками, он напевал грустным речитативом на тот манер, каким вообще читают магометане Коран, какую-то жалобу-молитву, сложенную одним сартом-муллою, шедшим вместе с ним в каторгу. К сожалению, я не помню ее дословно, хотя Маразгали и не раз переводил мне прекрасную, истинно-поэтическую песню; но каждый раз, как я слышал ее монотонный горький напев, у меня разрывалось сердце от тоски и боли: