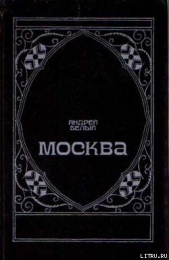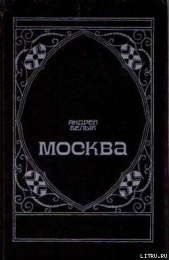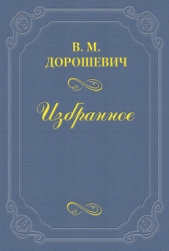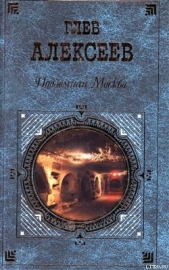Том 3. Московский чудак. Москва под ударом

Том 3. Московский чудак. Москва под ударом читать книгу онлайн
Андрей Белый вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
В третьем томе Собрания сочинений два романа: «Московский чудак» и «Москва под ударом» — из задуманных писателем трех частей единого произведения о Москве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот улица с рядом фасадов (фасад за фасадом — ад адом); и вдруг — переулок тишайший.
Там дом деревянный, с дубово-оливковым колером и с полукругом резьбы надоконной надстройки, — стоял, украшаясь и ниже резьбою: Пегас, конь крылатый, припавший и справа, и слева к Горгоне (копытом и гривой — под змеи), был вырезан ясно; жильцам невдомек, что то вырезан миф; здесь, в прощеле ворот, и глубоком, и узком, вытарчивал угол сарая, качалась веревка с просушиной тряпок лимонных и синих, белела глухая стена трехэтажного дома, глядевшего в Пащеков глухо заросший листвою большого зеленого сада тупик, обливавший Москву соловьиным отщелком, — с сидящею девушкой в серо-сиреневом платье и в пляшущей ветром юбчонке.
Над ней — белилей лепесткой загроздившей сирени в глубоком и синем Васильевском небе, где облако, продувень, тая, терялось клоками.
Все это — Москва!
И Москвой назывался район, где Пречистенка, улица тихая, тая в сплошных переулках, стояла домами отдельными; там — в переулках — дома, отойдя с тротуара в глубь сада, скрывали свои и колонны, и окна листвою.
Свернем…
Вот — тот дом!
Пять жерельчатых, белых колонн, — без дантиклов; к абакам принизился розовым выступом легкий фронтон, треугольником врезанный в голубо-пепельный и в теплооблачный день; он тишал, отступя от колонн розоватой втеною с гирляндами белых венков над промытыми стеклами окон и чуть вдаваясь выступом низа: сложеньем квадратов; в подъезде — два льва, к тротуару слагающих продолговатые морды; и легкая арка ворот: в теплооблачный воздух; литою решеткой, скрещеньем Гермесовых жезликов, — отгородился от улицы; дворик асфальтовый, камень конюшни, кусты, — те, которые после дождя сребродроги: дотронешься, — и оборвутся потоками капель в тот час, когда кто-то у окон присядет покуривать в бисерный воздух, когда на обтесанных плитах подъезда детва плюет семячком в вечер, а вечер, уже от-стекливши окошком, является облачком цвета вишневого.
Рядом — пальметы, дантиклы, гирлянды оливково-темных колонн дома бледно-фисташковых колеров, где из гирлянд отовсюду просунулся мордой профессорский фавн овнорогий, затмившийся в зеленоватые сумерки, в шум от деревьев за домом живевшего сада; над купами месяц, свое новолуние спрыснув, твердится сквозным халцедоном из мутно-сиреневой тверди.
Москва!
Да, — она
А уж парит!
И — загрозарело; деревья склонились друг к другу бессмыслицей, шопотный смысл в них явивши; и пагубородное что-то закрыло луну, перед нею пропятяся лапой — когтистою, черной — подкравшейся тучи; уж лапа разорвана в желто-зеленые и в желто-черные клочья; над ней, за трубой дымовой, — черно-желто-зеленая пасть: уже жутя, в пустом переулке дряхлец тащит челюсть на шее; фасад за фасадом — ад адом.
И двери, как трещины.
Загрозарело: ругается где-то прохожая туча; темнеет; за крышею семиэтажного кубища небо — взадуй: сухоплясами в окна; и — молньями в окна; дом, каменный ком, вспыхнув в выжелчень пламени, смерк; и в нем кто-то, дряхлый, на бедой стене в переулочке, вспыхнувши шеей и челюстью, — смерк.
15
Положа руку на сердце, — там, на эстраде, в проходах — стояли, сидели, обменивались впечатлением, поклонами иль протирали пенсне, — Айвазулина, Бабзе, Ветмашко, Глистирченко-Тырчин, Икавшев, Капустин-Копанчик, Нахрай-Хар-калев, Ослабабнев, Олябыш, Олессерер, Пларченко, Плачей-Перперчик, Шлюпуй, Убавлягин, Уппло, Фердерперцер и прочие, прочие — вплоть до Боговича: свора имен! Из них каждое — «им я», согбенное бременем лет, многотомных трудов, орденов и ученых дипломов, уже заключенное заживо в «Энциклопедию»; хоть бы — Пластальцев, лет десять сидящий в «Гранате» [92](такой есть словарь) меж «пластрон» и меж «Плантагенеты».
Хотя б — Айвазулина: женщина-стереохимик, взошедшая на Титикаку, сказавшая спич в Сантафэ-де-Боготе, надевшая около острова Пасхи скафандру и после едва не бежавшая с дон-Бордигере-Хуан-де-Петелло, министром бразильским; Глистирченко-Тырчин, прорезавший опухоль горла у вдовствующей кронпринцессы австрийской; Нахрай-Харкалев, путешественник, автор двухтомья «Цвай ярен мит антропофаген», друживший с Hьям-Ньямами, съевший в Уганде засохшие уши убитых врагов негра Мбэбвы, ошибочно думая, что то — сухие грибы; а Капустин-Копанчик (вот он — челюсть пятит к мадам де-Моргасько), он автор работы «Отчет по окраске плазмодиев осмиевым препаратом» (три тома); «Шлюпуй — не шлюпяк» (в словаре у «Граната» они оказались рядом), а (явствует все из «Граната») профессор и автор работы «О действии Леонтодон-Тараксакотум на сокращенье кишечника Лутра Вульгарис»; а Плачей-Пеперчик, известный в Германии, в Льеже. Досель в гейдельбергском химическом техникуме стоит крик о «пепертшик, с титрируйтен».
Все появились они, чтоб отчествовать «Математический Сборник»; и — да-с — вот так фунт: основателя «Сборников» этих, Ивана Иваныча, ждал бенефис, да — какой еще!
Фунт с полуфунтом!
Ивану Иванычу было невтолк и невесть, — что же, собственно, будет; обычно он вел заседанья; он — был заседаньем: решал, открывал, заседал; сообщал — только он; все иные, присутствующие в «Математическом Обществе» — только молчали: сегодня он был отстранен от всего (Млодзиевский взял в руки его); дело ясное, — да-с, — что предмет заседания — он; в этом случае сам соблюдал отстраненье; держался «предметом»; и тупил глазенки, когда заводили беседу об этом; сегодня бодрился с утра; перетрусил к обеду.
Теперь — дободрился и — выглядел доблестно.
Попричесался, загладил махры; и казался, представьте, курчавиком; щелкал крахмалом пропяченной грудью; во фраке кургузом — курбатиком выглядел; с ним обходились внимательно; как показался в профессорскую — разбежки, подбежки; Млодзиевский, и тот — бегушком: петушком! Члены Общества и делегация были во фраках смешных, белогорлые и белогрудые; туго зафраченный Умов подкрался на цыпочках — с ласкововещим, искательным голосом; все вкруг сгрудились, друг другу внушая очками: быть легкими, ясными; слышался шопот:
— Как?
— Не принесли?
— Депутация от…
— Депутация…
— Тсс!
— Ай, ай, ай, — что вы, батюшка! Вы бы… И «батюшка» спешно куда-то летел.
Физиолог растений Люстаченко (гербаризировал двадцать пять лет) с Щебрецовым шептался в углу: говорил, что хотели — ей-ей — в гидравлическом прессе системы Дави назвать винтик ответственный — «винтик Коробкина»; и утверждалось, что Павлов, геолог, в штрифе «гиперстен а» найдя что-то новое, новое это принес, чтоб отметить «Коробкинский день»; на Коробкина нежно косились очками, как бы приглашая друг друга вполне восхититься: единственным зрелищем; он, повздыхав, покорился тому, чтобы «чох» его каждый возглавил там что-нибудь; фрак же на нем был кургузый немного: с промятою фалдою.
Фалдами мягко юлили вокруг.
Гоготень доносился из зала.
Студенты ломилися толпами там, заполняя проходы и хоры; прилипли к стене; был галдеж под колоннами: распорядитель в линейной перчатке, в зеленом мундирчике, с воротником золотым, — прижимая шпажонку, показывал, где кому сесть; порасселись седые профессорши в первых рядах, в платьях скромных фасонов и колеров (с рябью) — тетеркиных, коростелиных и рябчиковых: все — такие индюшки, такие цесарки; ряды — лепетливые; дамы — почтенные; кто-то, кряхтя, костылял; поздоровался с Суперцовым, с Тарасевичем, Львом Александрычем, с Узвисом; маленький ростом Анучин с лицом лисовато-простецким, с лисичьими глазками, морща свой лобик, хватался за нос, проходя на эстраду, где груди крахмалом пропятились; но задержался с Олессерером.
И Олессерер важно лицо оквадратил.
Олессерер площадь сознанья разбил на квадраты наук, иль — кварталы; и в каждом поставил квартального: здесь стоял Дарвин; там — Кант: и — показывал палочкою: «от сих пор — до сих пор»; умерял циркуляцию мысли квартальным законом («от сих» и — «до сих»); когда мыслил Олессерер, — переменял он кварталы: здесь — звездное небо; там — максима долга; его мирозрение не было, собственно, «мировоззрением», — адресной книгой участка, где каждый прописку имел; здесь прописан был Дарвин; там — Кант [93]; на вопрос, что есть истина, он отвечал себе: «Мысли в таком направлении — то; мысля в эдаком — это!» Был враг прагматизма; боролся с Бергсоном [94]и Джемсом [95]: «Помилуйте, — хаос сплошной!» Все ж, — Бергсон мыслил хаос, пускай хаотически; Гитман Исаич Олессерер люто боролся с прочтеньем чего бы там ни было, с уразуменьем чего бы там ни было; читывал он лишь прописки в участки тогоили этого факта, в принципе невнятного; строгость логических функций его был отказ от попытки: помыслить.