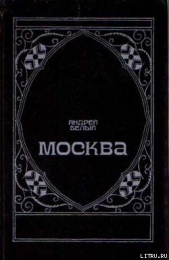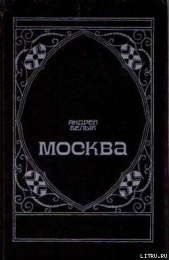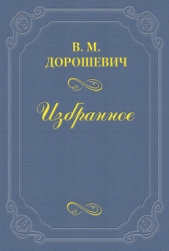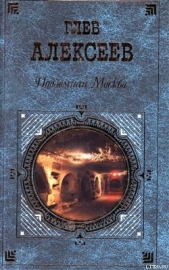Том 3. Московский чудак. Москва под ударом

Том 3. Московский чудак. Москва под ударом читать книгу онлайн
Андрей Белый вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
В третьем томе Собрания сочинений два романа: «Московский чудак» и «Москва под ударом» — из задуманных писателем трех частей единого произведения о Москве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Здесь опять отвлекусь рассужденьем.
Касаются эти ученые, точно кубарики, пущенные пятилетним младенцем, под цоканье очень опасных копыт, — как-то зря: в заседаньях, на кафедрах, — рыба в воде: все движенья — ловки, своевременны, стильны, изящны: а здесь, средь прохожих, кубарики эти — нелепейше вертятся: только одно поврежденье — себе и другим.
И еще скажу: вид знаменитых ученых на улице, если не тащит их слон на спине, — примененье предметов, полезнейших в сфере одной, — бесполезное к сфере, ну, скажем, гулянья: такой точно вид, как, опять-таки скажем, термометра, употребленного при ковырянии носа орудием расковырянья: термометр — сломается; нос — окровавится колким осколком стекла; ртуть — просыплется: ни — ковыряния носа, ни — температуры! А, впрочем, коль нос ковырять с осторожностью, можно, пожалуй, для этого взять и термометр.
Можно с большой осторожностью, — даже с ученым пойти: прогуляться.
Профессор тащил с горяченьем японца; бедняга едва поспевал; в его жестах была непонятная задержь: наверное, двигался так манекен.
За забориком — издали — пели:
Над крышами быстро летели сквозные раздымки: и вдруг просочилося солнце сияющим и крупнокапельным дождиком; и обозначился: мокрый булыжник.
— Арбат-с!
— По Арбату проехался Наполеон, да — бежал, чорт дери…
— Мы Москву ему в нос подпалили! — показывал он на свое своеумие русского духа.
Таким разгуляем шагал, молодяся всем видом.
— Артур бы не сдали-с [87]: изволите видеть, — тут Стес-сель [88]…Один Кондратенко [89]русак, да его разорвали гранатой… А то бы — он вас…
— У нас тозе золдат: холосо…
Но профессор нахмурился: не понимает японец! Последний поглядывал с задержью, мучаясь чем-то своим.
Постояли под Гоголем: свесился носом; прошлись по Воздвиженке; тут, подмахнув рукавом (на нем задрань висела), профессор сказал с наслаждением:
— Кремль-с!
— Кремлевские стены…
Не видя, что Нисси оливковым стал и давно уже пот отирал, он тащил его дальше:
— Музей исторический: великолепное зданье! Японец чеснул загогулиной тросточки в Думу:
— Не это-с, а — то-с… Не туда-с… Как же это вы, батюшка: это же — Дума: Музей исторический — то-с!
Но японцу не нравился стиль: и профессор сердился:
— Япошка!
— Завидует!
Был Исси-Нисси в Париже, в Берлине, в Нью-Йорке; готический стиль ему нравился: русский — не нравился. Встала слепительность, в синеполосую твердь:
— Храм Спаситель [90]!
Не видел он в местах умеренных поползновенье на что-то японца:
— Зайдем? И — зашли.
— Это вот богоматерь, — с младенцем: картина прекрасная, очень…
— Видал Лафаэль…
— Верещагин писал…
И, не давши опомниться, — в купол: перстом:
— Саваоф [91]!.. Потрясающий нос — в три аршина, а кажется маленьким…
Головы оба задрали: и долго смотрели — молчком:
— Нос — с профессора Усова списан: не с Павла Сергеича списан, а — дело ясное: списан с Сергей Алексеича, втора — да-с — монографии «Единорог: носорог»…
А на скверике кустики вспучились, бледные, — добелу: перепушилися чуть желтизною: там — зелени из бледно-розовых, бледно-сиреневых почек.
Прошлись вдоль реки.
На реке появились весной рыболовы с закинутой удочкой: вот проюркнет рыботек, — поплавок сребродрогнет, взлетит: только червь извивается: отлепетнула струей среб-робокая рыба; юркнула и — взвесилась темной спиною в зеленой водице; а наискось, над рыбо-розово-серой, зубчатой стеною Кремлевскою — башни: прохожее облако, белый главач, зацепилось за цапкую башню; и, став брадачом, отцепилось, теряясь краями.
Профессор увидел: вот — Федор Иванович Пяткин сидит, как и в прошлом году, — тот, который простуживает, тот, который, с Надюшею встретясь, поставил ее на сквозняк и рассказывал что-то, предлинное очень, до… флюса, — тот самый, который зимой позапрошлой с Иваном Иванычем встретившись, за руки взял, с ним уселся на лавочку, в снег, и рассказывал что-то, предлинное очень; и после подвел его под лошадиную морду, взмахнул в разговор: лошадь — вскинулась: в глаз просверкала подкова: и все — испугались; а Федор Иванович, — тот еще более: Федор Иванович Пяткин, дендролог, профессор в отставке, — у Храма Спасителя жил: и — под мост ходил рыбу удить. Надо правду сказать, что профессор забыл про японца; устал, призамолк: отбратался!
— Ну — вот-с и Москва: город древний…
— Мое вам почтенье…
— Пожалуйста, как-нибудь запросто к нам… И пошел себе прочь: с помаханием рук.
И стремительно прочь от профессора ноги несли самодергом японца — в «Отель-Националь», чтоб пасть замертво: в сон.
Вот мораль: не ходите осматривать с крупным ученым достопримечательностей городских; Москва — древний, весьма замечательный город.
А — что же в итоге? Кубарики…
Вечер стеклил.
И по небу неслися ветрянки: разорвинки облак; и — чуть прокололись звездинки, чтоб к ночи разинуться; был на реке — светоход; воды — дернулись ветром; на них испорхалося вдруг отражение месяца; после мелькач иссиявшихся бабочек ясно сбежался.
И вот: отражением месяца сделался вновь.
9
Василиса Сергеевна барышней долго страдала припадками, криком и корчею, после которых она повторяла без смысла такие пустые слова; а вокруг становилось все мнимо и мляво.
И вот повторился припадок.
Узоры обой остриями спирались, можжили висок: растиралася уксусом — все оттого, что за твердой стеной она слышала:
— Хо!
Собственно — ророро-ро: грохотала пролетка.
Сидела она у себя, выяснясь в бледнявое поле узоров лимонного цвета; такая же мебель из репса; такой туалет; сверху, с зеркала, — кружево, кружева — много: везде; и везде — несессерики; все здесь казалось весьма «несессер», — все, что нужно для дамы культурной, себя уважающей: том Задопятова с вышитой гладью закладкою; можно сказать, что и комната есть несессер; «несессер» и сама Василиса Сергеевна с тем, что она представляла собой — для себя и для зрения, вкуса и слуха: до… до обоняния (если принять во внимание сухость и запах изо рта, то — таранью ее было б можно назвать).
Нет, откуда ж «волнения», «страсти». И -
— Хо!
И не «хо», а «роро»: грохотала пролетка. Робея, глядела в окно; подойдя к подоконнику: стань-ка ты взбочь; и — увидишь: стоит!
Кто?
Идем к подоконнику, станем-ка взбочь; и — увидим мы: дворик; стоит мокрорукая прачка; мужик с жиловатой рукою засученной моет колеса; и — более нет: никого; из окна кабинетика видно другое: дома и заборы; и мимо — пролетки и люди; иной человек, проходя, невзначай заглядится в окно; и, пожалуй, покажется, что это взгляд, полный смысла, такой проницательный, вещий, — к тебе относился; напрасно так думать; прошел этот «кто-то» с особенной думой, не видя ни домика, ни занавесок, ни тех, кто за ними отнес к себе то, что совсем не относится к ним.
Но, взглянув на все это, стремительно шла к себе в спальню (здесь окна — на дворик и в сад); на все доводы разума, — только:
— Мерзавка какая!
Иван же Иваныч наставился:
— Что с тобой, Вассочка?
— Как-то мне…
— Ты бы на воздух пошла: все сидишь: так — нельзя же; без солнца — бактерии всякие, Василисёнок, заводятся: ползают, — знаешь ли.
— Что вы за вздор говорите; я моюсь, — на мне нет бактерий.
— Ан нет: состояние духа, мой друг, — от бактерии; если неможется, значит — бактерии. Ты бы откушала вечером, друг мой, — «лактобациллин»: убивает бактерии.