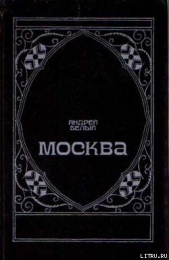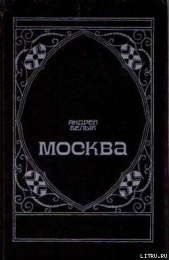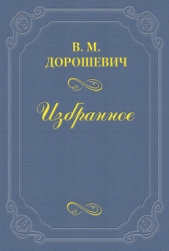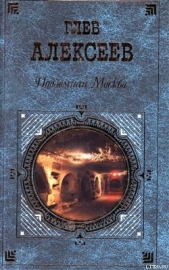Том 3. Московский чудак. Москва под ударом

Том 3. Московский чудак. Москва под ударом читать книгу онлайн
Андрей Белый вошел в русскую литературу как теоретик символизма, философ, поэт и прозаик. Его творчество искрящееся, но холодное, основанное на парадоксах и контрастах.
В третьем томе Собрания сочинений два романа: «Московский чудак» и «Москва под ударом» — из задуманных писателем трех частей единого произведения о Москве.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Муругие стены с придухою, плесенный запах; какая-то ларина, прель; не постель — просто козлы; на них — растряпья промесилища грязная; стульчик порожний (зачем-то сушился подштанник на нем); на полу и расплюй, и мокрель; на постели лежал заварызганный карлик в кофтенке кирпичной, скорей, впрочем, серой от грязи, трухлея своей передряблой и струпистой кожей; под глазом вскочил неприличный пупырь; еле дергались ноги его в потрясухе; изветошил платье: какой-то бахромыш додирывал; с сипом дышал, что-то мумлил.
Как видно, — был пьян.
Эдуард Эдуардович, чуть не заткнув нос от вони, всем видом брезгливость показывал; жескнул глазами на карлика:
— Что — насандалились? — зубил он. И отвечало безгласие.
— Что ж вы молчите?
Постель разбарахталась; что-то прокеркало:
— Лучше оставьте казненье…
Мандро измертвил его взглядом:
— Вы бьете баклуши: вы пьете.
И карлик поднялся своим пролежалым лицом, пожелтелым, как старый лимон:
— Что ж, прикажете жить водохлебом? Чернела заклейка дыры носовой.
— Нет, не жить водохлебом, а, взявши солиднейший куш, двинуть дело скорей.
Карлик сел:
— Вот они, — получайте обратно.
— Что?
— Деньги: пожалуйста… Мне их не надо: довольно с меня…
Мандро вздрогнул; не без удивленья взглянул, но — сдержался; развивши стратегию взглядов и позы, пожескнул лицом:
— Нате… — карлик затрясся. — Пожалуйте… Там вот — там, там: под периной… Своими руками берите обратно… Не я ли следил, как умел? Завел связи с прислугою… Все разузнал: и про письменный стол, и про… Что? Вам все мало: я знаю, чего вы хотите… Чтоб я ж и украл их?
Мандро столпенел.
— А вы знаете, что говорится в писании? Там говорится: Тебе говорю, Кавалькас, — не укради!
Стащился с постели; стал рыться в разгрязах! и, вытащив старый замотыш, потряс им над лобиком:
— Вот они, сребреники!
И на кривеньких ножках приклюкал к Мандро, под микитки:
— Смотрите же…
Поднял свое желто-алое глазье: и лютою злобой резнуло оттуда:
— Вот.
Брошенный мотыш, ударив Мандро прямо в лоб, шлепнул в пол; и Мандро его поднял: и — бросил обратно в лоскутную рвань:
— Ну-ну-ну…
Зашептал примирительно, злобу сдавив и руками схватясь за бока:
— Походите на кухню, скрепите сношенье с прислугою: понаблюдайте…
Вот — все…
Карлик стул подтащил, встал на стул; шею вытянул; ручками — в боки, нос — в нос (или лучше сказать, в нос — отсутствие носа).
— А…?
— Что же еще? Ткнулся пальцем о дыру.
— А за нос?
Тут Мандро, изо лба сделав морщ, прошипел, задыхаясь от злобы:
— Напрасно вы: старая песня…
— Но я докажу…
— Вы ничем не докажете…
Карлик ощерился: в горле его, клокоча — засипело:
— Сес…
— Полноте!..
— ссссиффилиссс…
— !..
— ссом…
— !!
— заразили…
— !!!
— Все…
А со двора заглянули в окно:
— Кто такой?
— Густобровый…
— Вот, — баки расправил…
— Мандра…
— Он и есть…
Но Мандро, помолчав, пересилил себя:
— Обойдется…
Усевшись на стуле верхом, к спинке стула прижавшись морщавеньким лобиком, карлик рыдал: безутешно: под бакой Мандро:
— Людвиг Августович, — успокойтесь: ну — полноте, ну, — Людвиг же Августович!..
— Ах, оставьте меня, сатана!
— Пустяки.
— Одолели сомнения, — глазье поднял желто-алое, — религиозные…
Снюхался, видно, с княжною в штанах:
— Чем я был?… Чем я стал?…
— Чем вы были?… Припомните лучше «Паноптикум» на Фридрихштрассе… Вот чем были вы… Чем вы стали? Что ж, — вы человек обеспеченный…
— Уж разрушается нёбо… О, о!
— Там подлечат.
— О, о… О, майн готт! Ковалькас, Людвиг Августович, чем ты стал? О! О! О! Ты — убил… Ты — украл… Ты — не чтил отца с матерью… Ты — любодействовал… Ты… Ты… О, вэ, — перешел на немецкий язык он, — Марихен, Марихен, майн швестер: их бин онэ назэ!.. О! О!
Мандро, не решался сесть на брезгливости, стиснувши губы, с досадою ждал окончанья припадка; порыв безутешного горя сменился порывом большой экзальтации:
— Не отвернись от меня, ду, майн готт: я постиг теперь свет, — перешел он на русский язык, — ты послал мне одну свою добрую душу, которая…
Вот так княжна!
— О, я буду лечиться… Я…
Все еще плача, привстал и пропел он
Мандро это слушал: и — ждал; карлик сел на перину, шурша ею громко; за стенкой послышалось — прохиком злобным:
— Перину-то ты обдавил: растаращил перину, — шаршун!
Беспокоился Грибиков.
Более часу возился Мандро; наконец, кое в чем он успел; кое в чем — успокоился; вышел с пожелклыми взорами, с позеленевшим лицом в переулок: в разглазные искорки вспыхнувших домиков!
Карлик, достав из-под козел бутылку, с ней лег; и просунулся Грибиков:
— Вшивец ты, вшивец!
3
Лизаша стояла перед зеркалом в люстровом свете такой вертишейкою, вертиголовкою, делая в зеркале глазки себе и юродствуя жестами, детски не детскими; а за спиною ее, из-за складок портьеры, выглядывала густобровая, густоволосая голова: Эдуард Эдуардович, в позе, с осклабленным ртом, как-то свински глядел на нее; эти взгляды ложились слишком уж пристально; липли к коленям, к груди; и, казалось, хватались за руки, за ноги, за груди, стремясь обездушить.
Ей стало неловко (а сердце в межреберьи билось). Ему папиросный дымочек пустивши под нос, подобравшись, пошла прочь от зеркала с твердыми, сжатыми бровками; нервно бахромила пальцами краюшек белого шарфа; сегодня надела она свое первое длинное платье, — легчайшее, белое: юбка с оборкой плиссе.
Они ехали с «богушкой» на заседанье «Эстетики». Он над зеленой доской диабаза глаза опустил и рукой гребанул бакенбарду; оправил вишневый свой галстух, — прекрасно повязанный:
— Едем!
Ему «мадемуазель фон-Мандро» показала вдруг ставшие лунками глазки, взяла его под руку, чтобы пройтись с ним в проход, где со столбиков статуи горестных жен устремляли глазные пустоты года пред собою, — не видя, не слыша, не зная, не глядя.
Прошли мимо их, не увидевших горестных жен.
Уж в передней на руки прислуги валились ротонды; пропирка и подпихи локтя, защемы калошею тренов; снималися шапки собольи, барашковые, чернополые шляпы (был март); в отдаленье стоял муший зуд голосов; кто-то хмуро пенсне протирал; кто-то палку с балдашкою бросил служителю в люстровом свете; мужчины несли свои плеши по лестнице; дамы — прически, вуали и трены.
Лизаша с отцом поднималась по лестнице, устланной сине-зеленым ковром, проходя в сине-серые, тонные стены.
— Bonjour…
Эдуард Эдуардович замодулировал голосом, миной и позой с зеленоволосой русалкой, которая с ним заструилась с подплеском «бо мо»; вот она, подрусаливши взглядом, прошла в круглопляс сюртуков и визиток, в дыхание шарфов, в грудей раздвоенья, прикрытых чуть-чуть, в передерги плечей оголенных, в проборов и лысин душистых подкив, в экивоки расчесов, улыбок, настроенных слов (на вине и на рифме), в свободные галстухи, в матовый рык голосов, пересказывающих распикантнейшие баламутни Москвы.
— Пукин стены гостиной своей заказал расписать Пикассо! [76]Пикассо приезжает в Москву…
— Нет, вы знаете, чч-то есть Сэзанн? [77]…Это кк… ороч-ки… чч… ерного хлеба… пп… пп… пп… пп… после обеда пп… пп… — заикался в другом углу Пукин.
— Сс… сс… Сергей Пп… олирпыч… ггурман… В «Метрополе» ему пп… одают за обедом не сс… уп… — кк… еросинчик и вместо бб… бри… кк… кк… кк… кк… усочек кк… азанского мм… мм… мм… мыла… — рассказывал Пукин, известнейший коллекционер, миллионер, скупщик ситцев, бросающий в Персию и Туркестан производство московских станков. Этим летом, себе заказав караван, на ослах и верблюдах он съездил к Синаю, взглянув предварительно в очи каирского сфинкса: