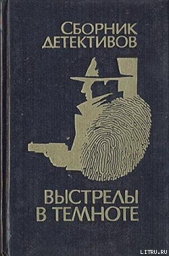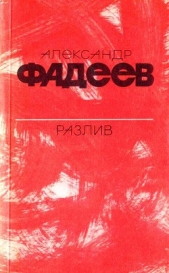Киносценарии и повести

Киносценарии и повести читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Сергей увидел Нинку, вспыхнул, староста обернулась, снова плюнула и, мослами своими выступающими пользуясь, как тараном, вытеснила монаха в коридор:
- Хотели чего, батюшка?
- Д-да! узнать! как устроились.
- Слава тебе, Господи, - перекрестилась староста. - Сподобил перед смертью рабу Свою недостойную!
В монастыре Святого Саввы народу было полным-полно.
Монах как бы невзначай притиснулся к Нинке, вложил в ладонь микроскопический квадрат записки и так же невзначай исчез. Нинка переждала минуту-другую, чтоб успокоилась кровь, развернула осторожненько.
"Я люблю тебя больше жизни. Возвращайся в номер. Сергей".
Нинка закрыла глаза, ее даже качнуло! Странная улыбка тронула губы, которые разжались вдруг в нечаянном вскрике: жилистая, заскорузлая, сильная старостина рука выламывала тонкую нинкину, охотясь за компроматом.
- Отзынь! - зашипела Нинка. - Я тебе щас! к-курва! - и лягнула старосту, чем обратила на себя всеобщее осуждающее внимание, вызвала усмиряющий, устыжающий шепоток.
Нинка выбралась наружу, к груди прижимая записку в кулачке, огляделась, нет ли Сергея поблизости, и остановила такси!
Автору несколько неловко: он сознает и банальность - особенно по нынешним временам - подобных эпизодов, и почти неразрешимую сложность описать их так, чтобы не технология и парная гимнастика получились, а Поэзия и выход в Надмирные Просторы, но не имеет и альтернативы: нелепо рассказывать про любо_вь (а автор надеется, что именно про любовь он сейчас и рассказывает), по тем или иным причинам обходя стороною минуты главной ее концентрации, когда исчезает даже смерть.
В крайнем случае, если за словами не возникнет пронизанный нестерпимым, как сама страсть, жарким африканским солнцем, чуть-чуть лишь смикшированным желтыми солнечными же занавесками, кубический объем, потерявший координаты в пространстве и времени; если не ощутится хруст, свежесть, флердоранжевой белизны простыней; если не передастся равенство более чем искушенной Нинки и зажатого рефлексией и неопытностью, едва ли не девственностью Сергея пред одной из самых глубоких Тайн Существования, равенства сначала в ошеломляющей закрытости этих Тайн, а потом - во все более глубоком, естественном, как дыхание, их постижении; если, лишенные на бумаге интонации слова Сергея, выкрикнутые на пике:
- Я вижу Бога! вижу Бога! - вызовут у читателя только неловкость и кривую улыбку - лучше уж, признав поражение, пропустить эту сцену и сразу выйти на нетрудный для описания, наполненный взаимной нежностью тихий эпизод, экспонирующий наших героев: обнаженных, обнявшихся, уже напитанных радиацией Вечности и ведущих самый, может быть, глупый, самый короткий, но и самый счастливый свой разговор.
- Еще бы день! ну - два! и я бы не выдержал: бросил все и зайцем, пешком, вплавь, как угодно - полетел бы к тебе. Я больше ни о чем! больше ни о ком думать не мог!
- А я, видишь, и полетела!
- Вижу!
- Пошли в душ?
Струйки воды казались струйками энергии. Нинка с Сергеем, стоя под ними, хохотали, как дети или безумцы, брызгались, целовались, несли высокую чушь, которую лучше не записывать, а, как в школьных вычислениях, держать в уме, ибо на бумаге она в любом случае будет выглядеть нелепо, - потому не услышали, никак не приготовились к очередному повороту сюжета: дверь отворилась резко, как при аресте, проем открыл злобную старосту и человек чуть ли не шесть за нею: руководителя группы, мальчика из службы безопасности, паломника-иерея, еще какого-то иерея (надо полагать - из Миссии), гостиничного администратора и даже, кажется, полицейского.
- Убедились? - победно обернулась к спутникам староста. - Я зря не скажу!
В виде, что ли, рифмы к первой послепроложной сцене, подглядим вместе с Нинкою - и снова через зеркало - на падающие из-под машинки клочья сергеевой бороды, чем и подготовим себя увидеть, как побритый, коротко остриженный, в джинсах и расстегнутой до пупа рубахе, стоит он, счастливый, обнимая счастливую Нинку на одном из иерусалимских возвышений и показывает поворотом головы то туда, то сюда:
- Вон, видишь? вон там, холмик. Это, представь, Голгофа. А вон кусочек зелени - Гефсиманский сад. Храм стоял, кажется, здесь, а иродов дворец!
- В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкою, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана! - перебив, завораживающе ритмично декламирует Нинка из наиболее популярного китчевого романа века.
- Ого! - оборачивается Сергей.
- А то! - отвечает она.
И оба хохочут.
- А хочешь на Голгофу? - спрашивает расстрига, чем несколько Нинку ошарашивает.
- В каком это смысле?
- В экскурсионном, в экскурсионном, - успокаивает тот.
- В экскурсионном - хочу.
Не то что б обнявшись - атмосфера храма, особенно храма на Голгофе, от объятий удерживает - но все-таки ни на минуту стараясь не терять ощущения телесного контакта, близости, наблюдают Нинка с Сергеем из уголка, от стеночки, как обступила небольшая, человек из восьми, по говору хохляцкая - делегация выдолбленный в камне священной горы крохотный, полуметровый в глубину, колодец, куда некогда было установлено основание Креста. Хохлы подначивают друг друга, эдак шутливо толкаются, похохатывают.
- Чего это они? - любопытствует Нинка.
- Есть такое суеверие, - поясняет Сергей, - будто только праведник может сунуть туда руку безнаказанно.
- Как интересно! - вспыхивает у Нинки глаз, и, едва хохлы, из которых никто так и не решился на эксперимент, покидают зал, Нинка бросается к колодцу, припадает к земле, сует в него руку на всю глубину.
Сергей, презрительный к суевериям Сергей, не успев удержать подругу, поджимается весь, ожидая удара молнии или черт там его знает еще чего, однако, естественно, ничего особенного не происходит, и Нинка глядит на расстригу победно и как бы приглашая потягаться с судьбою в свою очередь.
- Пошли! - резко срывается Сергей в направлении выхода. - Чушь собачья! Смешно!..
Бородатый человек лет сорока пяти сидел напротив наших героев за столиком кафе, вынесенным на улицу, и вальяжно, упиваясь собственной мудрой усталостью, травил, распевал соловьем: