Том 10. Петербургский буерак
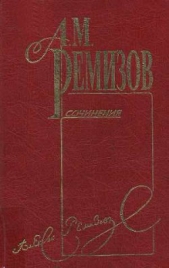
Том 10. Петербургский буерак читать книгу онлайн
В десятый том Собрания сочинений А. М. Ремизова вошли последние крупные произведения эмигрантского периода творчества писателя – «Мышкина дудочка» и «Петербургский буерак». В них представлена яркая и во многом универсальная картина художественной жизни периода Серебряного века и первой волны русской эмиграции. Писатель вспоминает о В. Розанове, С. Дягилеве, В. Мейерхольде, К. Сомове, В. Коммиссаржевской, Н. Евреинове, А. Аверченко, И. Шмелеве, И. Анненском и др. «Мышкина дудочка» впервые печатается в России. «Петербургский буерак» в авторской редакции впервые публикуется по архивным источникам.
В файле отсутствует текст 41-й страницы книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И тут наши дороги разойдутся, чтобы сойтись по-разному на общей литературной работе, мы снова встретимся: я со своим «формализмом», Шмелев со своим словесным размахом, как устно, так и письменно.
Шмелев держался «белоподкладочников» – студентов из «хорошего общества», по преимуществу богатых, с каким-то нетерпеливым отвращением сторонясь «нигилистов», как называл он, по Горкину, неказистых студентов, которые участвовали в «беспорядках», пели «Дубинушку» и малороссийские песни. Мне же, при моем рвении все узнать – пройти все науки, всегда были ближе эти самые нигилисты: «революция – живая вода жизни». Шмелев благополучно кончил университет, а мне путь – тюрьма и ссылка.
И как это странно, Шмелев войдет в русскую литературу своим «Человек из ресторана» 4, и имя его вспыхнет над Москвой ярче бенгальских огней Шмелевского фейерверка и заглушит плеск шаек Серебряниковских бань. Это про него в «Речи» В. Д. Набоков, отец Сирина, написал «Нечаянная радость». Да это ж наша русская традиция: «совесть» и «протест» русского писателя: Горький, Леонид Андреев, Куприн, Шмелев.
А я вышел – и это после всяких скитаний, моя первая книга «Посолонь», признаюсь, я тоже ждал себе «Нечаянную радость», да вскоре и в московской газете: Павел Зайкин о Павле Зайцеве «Нечаянная радость». Умные люди с сожалением говорили: «все козявками занимаетесь!» – а на Ильинке свои из гильдейских 5: «Чего ты ерунду пишешь, пиши, как Лесков!»
По слогу Шмелев идет от «Питерщика» Писемского и сцен Горбунова, есть и от Лескова, но без лесковского лукавого ущемления – дедовская черта: какие на Москве бывали «интересные» покойники, какие семейные разговоры, кому и чего взять после покойника, до слез и колошмата. Дед Шмелев все заметит, но даже и про себя не улыбнется.
В писательском ремесле каждый хочет написать как можно выразительнее и умнее. Но следить за словом, как оно звучит и проверять глаз, вижу я или не видя повторяю готовое, – это искусство слова нам не ко двору. Мы «такари» и «потомули», для нас первое смысл, а как написано и как могло звучать по-другому, не ущерб смысла, не спрашивается.
Шмелев далек искусству слова. Пользуясь классическими приемами описаний, он мог по дару своему и чутью и фейерверк запустить и откроет банный кран с шипом и брызгом.
Хороша метель у Толстого, и Шмелевская хорошо. Не степная, Замоскворечье: затаясь слышу – ее дикий, ее вольный голос с цыганской перегудью, сквозь прищур лампадки от нетихих грозящих образов.
«Такие события, – говорил Шмелев всегда взбудораженный, он следил за газетами, принимая к сердцу и правдошное и утку, – а негде высказаться!»
«Дневник писателя» ему заветное, он и начал свой «Дневник неписателя». Неудачно, только и объяснимо: не повторять Достоевского. Горьковское «человек звучит гордо», у Шмелева «писатель». Он готов был бы повторить за Гоголем: писатели, «это огни, излетающие из сердца народа, вестники его сил». Таким он себя чувствовал. И гордо повторял: «мой читатель».
Шмелев оставил свою московскую память: «Лето Господне» и «Богомолье». Но этого мало, его мучило – хотелось написать что-нибудь вроде «Бесов» Достоевского.
Толстовское «Не могу молчать» и Достоевского «пророчества» в беллетристической форме – и в его глазах и как он выражался.
Шмелев «во всей форме» русский писатель.
В нашей судьбе при всем нашем различии есть что-то общее. И не только Замоскворечье – колыбель Москва.
В канун войны померла жена Шмелева, Ольга Александровна – сорок лет их жизни! – и Серафима Павловна померла в оккупацию (1943) – сорок лет нашей жизни.
В Крыму в революцию убили единственного сына Шмелева, и в ноябре 1943 при отходе немцев из Киева погибла наша единственная дочь. В бомбардировку 1940-го немецкая бомба саданула у моего окна, а вскоре американская бомба ударила в Шмелева – ни немцам до меня, ни американцам до Шмелева, стало быть апокалиптическая, не иначе, как Левиафан. А уж без всякого Левиафана, в последние годы оба мы по-разному вышли из литературного круга: в списках писателей вы не найдете имени Шмелева, и меня вычеркнули.
В Обезьяньей Палате Шмелев занимал место благочинного: благочинный обезвелволпал митрофорный и с палицей.
Последние годы мы, как когда-то в Москве, снова сошлись на одной улице – я в № 7 Буало, Шмелев на другом конце – 91-ый. Между нами до оккупации Сирин-Набоков (№ 73).
В первый год оккупации (1940) спозаранку выхожу из дому за кормом. И часами стою в хвосте «беспризорных». А дождавшись своей доли – суп выдавали – тащусь домой. Или с пустой посудой, как случалось от немецких казарм – нешто с бабами можно тягаться: голодная, взгрудя, перебьет очередь или задницами оттиснут. По дороге заходил к Шмелеву передохнуть.
Шмелев писал о прошлом величии России: как на праздниках ели и какие и где в Москве можно было достать продукты. И на чем я его застигну, про то он мне и рассказывает – о балыках, о осетрине, о копченой и о свежей рыбе в садках, и лавочников перечислит и лавки. И отпуская меня, всегда пошлет Серафиме Павловне «пряничек» – что-нибудь из сладкого, что ему самому добрые люди подадут. Если даже и с пустыми руками, я принесу домой гостинец.
«Сегодня, скажу, мы как-нибудь – завтра я непременно с едой вернусь. А это – Иван Сергеевич».
Столовую для «беспризорных» закрыли, и немцы к казармам больше не подпускают. И я стал ходить по соседству, только улицу Молитор перейти, в русский ресторан. Надоел – а подавали.
Шмелев – на перепутье. Я весь день стою в очередях. И во все годы оккупации мы не встречались. Я спрашивал. «Пишет, говорят, да разве не читали его о Москве: ну, и ели ж в старину!»
Только с освобождения мы снова встретились. Я не отрекался от мира, но лезть на глаза, самому не видя глаз, лучше посидеть дома. Шмелев заходил меня проведать. И еще больше взбудораженный: «новый читатель… а негде высказаться!»
И долго не идет, я прошу кого-нибудь из соседей снести письма. Я без кофию не могу, а у Шмелева были какие-то руки и он достанет, или вернуть книгу – Шмелев брал у меня Достоевского, никому не даю.
Я заметил у Шмелева необыкновенное пристрастие к титулованным и высокопоставленным. У него голос менялся: «вчера весь вечер читал мой рассказ Великому Князю». Или «зашел ко мне генерал Деникин». И чтобы доставить удовольствие, я всегда в письмах прибавляю титул: «Баронесса Екатерина Даниловна Унбегаун», Нина Григорьевна Львова – «княжна Львова», Анна Николаевна Полякова – «графиня» (Анна Николаевна славится слоеными пирожками и поставляет Копытчику (С. К. Маковскому) свежие огурцы – для «костюмошной складки» 6).
«Ну, как, говорю, Иван Сергеевич?»
– Очень любезен. Только неловко: всё меня графиня-графиня. Вы ему что-нибудь написали?
«Ничего не писал, это он из уважения».
«Солнце мертвых», «Неупиваемая чаша» 7 – Горький, Леонид Андреев, Куприн, Шмелев – русский писатель, который знал и вес и цену своему слову, откуда это уважение? Или как «нигилисты», так и «графиня» не без Горкина?
Мне было чего-то неловко. Всякого можно на чем-нибудь поймать, по себе знаю, но он, Шмелев, русский писатель высоких традиций…
По свежим следам Шмелев читал мне ненапечатанные главы из «Путей Небесных». Он особенно ценил эту свою хронику: тут была и московская метель, и мценский тургеневский закат. Но не метель, не закат, ему хочется слов Достоевского, как расставаясь с Алешей скажет Зосима: «Ты будешь все с несчастными и в несчастьи счастлив будешь» 8, вот что-нибудь такое вклеить в слова своей героини. И Шмелев умилительно шепчет, вышептывая «истину». А никаким умилением и шепотом «истину» не превратить в мудрость.






















