Том 10. Петербургский буерак
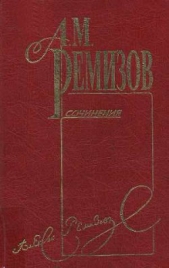
Том 10. Петербургский буерак читать книгу онлайн
В десятый том Собрания сочинений А. М. Ремизова вошли последние крупные произведения эмигрантского периода творчества писателя – «Мышкина дудочка» и «Петербургский буерак». В них представлена яркая и во многом универсальная картина художественной жизни периода Серебряного века и первой волны русской эмиграции. Писатель вспоминает о В. Розанове, С. Дягилеве, В. Мейерхольде, К. Сомове, В. Коммиссаржевской, Н. Евреинове, А. Аверченко, И. Шмелеве, И. Анненском и др. «Мышкина дудочка» впервые печатается в России. «Петербургский буерак» в авторской редакции впервые публикуется по архивным источникам.
В файле отсутствует текст 41-й страницы книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Явление «глагольной» книжное: повести пишутся не безразлично, хочется запеть, а дыхания нет, хоть «сглаголю», сойдет.
Я показал все «глагольные» в Повести и как и чем заменить – фраза получилась куда отчетливей и звонче.
Его очень удивило: в первый раз, никогда в голову не приходило, что он пишет на «глагольных».
– Вы книги читаете глазами – для развлечения, а попробуйте слово за словом, вот еще и не такое откроете, чем и на чем пишут.
Я не спросил, давно ли он пишет рассказы. Но подумал: «а может Осоргин прав, никакой Нахичеванской, а стихи Пантелеймонова?»
Потом на мои расспросы Бейружане мне говорили, что Нахичеванская стихов не писала, но и о Пантелеймонове не слышно, чтобы писал.
В. Муйжель – повесть из колхозной жизни – имени не наживешь! Имя Пантелеймонов начинается со «Святаго Владимира».
Есть две грамматики: школьная и неписаная сказа, природной, непроизвольно складывающейся речи. В книжной можно достигнуть большой выразительности: начиная со «Слова» 33, Макарьевские минеи 34, классическая литература. В книгах пример сказа – Житие Аввакума 35. Но Аввакум проповедник, книжник, и его сказ прослойка живого слова в условную книжную речь.
Где же искать речевые русские лады, не подчиняющиеся правилам грамматики церковнославянской, Мелетия Смотрицкого (XVII в.)? Роман Якобсон указывает на Летописи, Обнорский на Русскую Правду 36 – так далеко в веках и не поймешь, а есть ли что ближе – послетатарское-русское? Есть, это дьячий язык Приказов. В этой приказной речи никакой книжности, никаких «щей», да и как в деловое загнать витийство – словесность. И еще только не в «художественной литературе» – повести XVII в. написаны по Мелетию Смотрицкому, сказ проникает в историю – Хронограф, в подметные листы Смутного времени. Сказ – живая вода. Никто не говорит: ходить по дьякам, нет, приказная грамота только путь. Это все равно, как в начертании букв, кто говорит паутинить скорописью XVII века? Идти из этой паутины и создавать свой рисунок-росчерк, раз я пишу русскими буквами. Книжную, застылую в книжных формах фразу надо встряхнуть и выговорить, и такая фраза зазвучит живо и выразительно.
– Надо переучиваться грамматике.
Эти мои грамматические рассуждения, сказанные не безразлично, я сам опутан школой и рвусь освободиться от «Мелетия Смотрицкого», поразили Пантелеймонова, как когда-то Пильняка. И Пильняк-Вогау упорно переучивался грамматике и встряхивал фразы.
Пантелеймонов растерялся, как и на «глагольные», в первый раз в жизни слышит: две Грамматики, и все, что он привык считать за образец, написано школьной или как ему на душу упало: «по Мелетию Смотрицкому».
«Я буду не по Мелетию Смотрицкому!» Он не сказал, но все в нем заиграло – и как он собирал свою рукопись и как прощался.
«Святый Владимир», с чего и пошел Пантелеймонов, письмо «синтетическое»: две Грамматики – волной катятся по страницам – живая речь «сказа» и школьная «Мелетия Смотрицкого».
Да и как иначе: при всей переимчивости и таланте надо – большая работа – слить эти две волны.
«Святый Владимир» по своей теме наверняка: у кого не было дяди Володи? Или кто вычеркнет из жизни свои детские годы – чистоту и веру?
«Если бы не так много пили, заметила учительница, “Святаго Владимира” можно было бы и детям читать».
И все страницы других рассказов, где дядя Володя, а с ним вся природа, живут своей детской правдой, безо всякого натужного или простецкого модерна, соблазн между двумя грамматиками.
Дядя Володя – Пантелеймонов. И как было не полюбить Дядю Володю. Так он проходит в моей памяти: Иерусалимский-Стеколыцик-Дядя Володя.
Я уверен, его полюбил бы и М. А. Осоргин – огородник, и М. М. Пришвин – Лесовой Чародей, и Е. В. Дриянский – дремучий охотник.
Сколько раз я читал ему свои рассказы, а он никогда. И какой у него голос, не разговорный инженера, а в чтении?
На Благовещение приехали Кодрянские – Наталья Владимировна и Исаак Вениаминович, привезли диктофон. Будем выпускать «птичку» – читаю Пушкина и Туманского: «В чужбине свято соблюдаю родной обычай старины…» 37 и «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей…» 38
На «птичке» были и Пантелеймоновы.
И после моего праздничного, но всегда «двух ладов», читала Кодрянская – прозрачный английский рожок, а закончил вечер Пантелеймонов – да у него бас!
«Борис Григорьевич! По вашим глазам вы шли дорогами Пришвина и Дриянского, это ль не честь и богатая доля! Ваши картины природы не потускнеют, их будут хранить – кому дорого русское слово. И теперь, какие леса и какую зарю вы видите не нашими, а этими глазами живого открытого сердца?»
Центурион *
Я не сравниваю себя со Шмелевым (1875–1950) – имя Шмелева большого круга и в России, и среди русских за границей. Вспоминая Шмелева, говорю и о себе, потому что оба мы вышли на свет Божий в литературу, родились и росли на одной земле. Так я мог бы писать и о Островском – какое уж тут сравнение! – но колыбель наша, и у Островского, и у Шмелева, и у меня Москва.
Шмелев старше меня на два года, – два года не в счет, смотрю на него как на сверстника. Оба мы замоскворецкие, одной заварки: купеческие дети. И домами соседи: дом подрядчика Шмелева и дом второй гильдии купца Ремизова, а между нами исторический Аполлона Григорьева (Аполлон Александрович Григорьев, 1822–1866, «органическая» критика, что по-современному «экзистенциальная»).
Дед Шмелева гробовщик, я сын московского галантерейщика. Гробовщики народ степенный и молебный, галантерейщик щеголь и балагур: одно дело снаряжать человека в путь «всея земли», другое пройтись по улице или прокатиться на Кузнецкий – какие пуговицы, а гребешки! галантерейщик и парикмахер – «венский шик» с завитком и выверть.
Отец Шмелева заделался тузом на Москве за свои масленичные горы – понастроены были фараоновы пирамиды в Зоологическом и Нескучном. Долго потом купцы вспоминали в Сокольниках и на Воробьевых за самоваром Шмелевские фейерверки. А замоскворецкие кумушки с Болота и Зацепы за блинами у Троицы-Сергия 1 – вдруг взблестнет и совсем не к месту, летящие шмелевские огни-змеи над Москвой и как бахнет – в глазах черно, качусь-лечу в чертову пропасть.
А когда мы переехали из Толмачей на Земляной вал – далеко, имя Шмелева ни Москва-река, ни городом не застенило: Серебряниковские бани на Яузе – хозяин Шмелев, Шмелевские не промахнут, и Сандуновским себя покажут!
На одном валуне, под одним небом – мелкой звездной крупой в гуле кремлевских колоколов мы росли: одни праздники, святыня, богомолье, крестные ходы, склад слов, прозвища, легенды.
Я оказался бойчее – то ли отцовская галантерея и бумагопрядильная фабрика моих дядей, или потому, что у меня не было Горкина, 2 этого Тристановского Говерналя 3 с Мещанской, а была воля все по-своему, в один год мы поступили в университет: Шмелев на юридический, с ним Семен Людвигович Франк, философ, всегда болело горло, я на естественный (физико-математический), со мною позже Андрей Белый – Борис Николаевич Бугаев, из современников единственный – «гениальный».






















