Том 10. Петербургский буерак
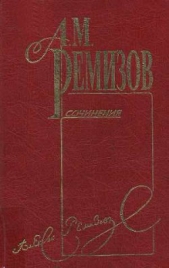
Том 10. Петербургский буерак читать книгу онлайн
В десятый том Собрания сочинений А. М. Ремизова вошли последние крупные произведения эмигрантского периода творчества писателя – «Мышкина дудочка» и «Петербургский буерак». В них представлена яркая и во многом универсальная картина художественной жизни периода Серебряного века и первой волны русской эмиграции. Писатель вспоминает о В. Розанове, С. Дягилеве, В. Мейерхольде, К. Сомове, В. Коммиссаржевской, Н. Евреинове, А. Аверченко, И. Шмелеве, И. Анненском и др. «Мышкина дудочка» впервые печатается в России. «Петербургский буерак» в авторской редакции впервые публикуется по архивным источникам.
В файле отсутствует текст 41-й страницы книги.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По пятницам в NRF у Paulhan’а – толкучка, а не очень громко и, если сравнить, то с добрым собачьим урчаньем, а в «Mesures» – тишина, как в кумирне в час лошади полднем.
Картина меняется. Прощальный вечер «Mesures» в канун войны – 18 июня 1939.
К Church’у в это воскресенье наперлось гостей, по приблизительному подсчету Marc’а Bernard’а, глаз у него зоркий, ни мало ни много, что не вся тысяча, не считая случайных и «заодно». И тут уж никакая молчанка, музыка пошла – начали с трех, а кончили с петухами – и музыка, и фейерверк с финальными гиппопотамами, изобретение и гордость самого хозяина.
Хозяин, еще загодя, еще зверей не кормили, – а ведь, все мы, и есть не хочется, а обязательно к буфету броситься да, продираясь, еще соседа ткнешь вилкой для беспрепятствия или на ногу ему лапищей, дурак завоет! – хозяин спокойно проходил среди танцующих или выжидающих кормежки и усиленно упрашивал остаться посмотреть – не Miller’а, его тогда впервые напечатали по-французски в американском номере «Mesures», не Joyce’а, тоже печатавшегося в «Mesures», а именно гиппопотамов.
Я все гадал: приведут их, или сами?
René de Reneville, за которого я держался, чтобы сослепу не скувырнуться или чтобы не очень примяли, куда-то без предупреждения исчез и пропал. Я решил, что это Reneville за ними: мы только что вспомнили Панчатантру.
И вдруг показалось – но я не сразу их увидел: я нос задрал, следя за небесными драконами: их шестьдесят летало и из шестидесяти хвостов золотом пылили булавочные звездочки, ссыпаясь и рассыпаясь, – как выскочили гиппопотамы.
Гиппопотамы выдрались из искусственной бездонной пропасти – при доме небольшая чернела воронкой, с террасы смотрю – и один за другим, как лапчатые, водяные, волосатые, мягкие тибетские «лусуты» или ненасытные «головолапые» «бериты», хвост перочинным ножиком: мордами шипят, и который, фыркнув, такой огонь пустит, никакому и орлиному глазу не выдержать: влопь.
Оглушенные драконами, не отрываясь, мы любовались на гиппопотамов. Я посочувствовал хозяину и поблагодарил: я тоже люблю всё чудное и чудовищное.
А потом расплачиваемся.
Тащиться ночью пехтурой из Ville d’Avray, не нашу улицу Rue Boileau перейти, и только ухватясь за шляпу Groet-huysen’а попал в поезд, хорошо еще в тот самый. А вот Marcel Arland – потом припомнил, путаясь в согревающих электрических проводах в редакции Comedia, когда останется нам только вспоминать – Marcel Arland, вскоча в «Париж», одна нога обута, другая налегке, сапог посеял при наступлении, очутился неисповедимо в Brinville, ишь куда его нелегкая занесла, в Brinville! – тоже пострадал от гиппопотамов!
24 октября 1946 года – мне особенно памятный день, мой черный день – у Gallimard’а в NRF. Тут наше последнее свидание, первое после гиппопотамов: злые годы – нашу парижскую страду – Church прожил в Америке.
Узнал ли он нас: ведь все мы другие стали.
Одни, как Crémieux, просто сгинули, нет и Joyce’а и Groethuysen’а, помер и молодой René Daumal (помогал переводить мою непереводимую азиатчину), другие из-под сверла выскочили, как Jean Paulhan, третьи – «полбока-луплена», а у кого и лапы целы, а от хвоста и звания нет, и наоборот, или, как я, тычусь со своей белой палкой.
Он стоял – прозрачный, стекло из Ville d’Avray с окна переместилось в него. И озеркаленный, он еще величественнее показался мне. На его плечах шарф – холодновато в комнате – нет, не пастор «лхарамбо» из Лхассы или, проще, архидиакон Роман Сладкопевец 11, в свою последнюю влахернскую обедню, орарем обводящий с амвона:
И я видел, как Brice Parain – он, как ни открещивайся латынью, а и иного мира, водяные – полевые – поземные – и – подземные – Brice Parain подозрительно отворачивал морду, будто занимая гостей, сужу по себе, для «нечистой силы» этот литургический возглас неприятен.
Я знаю отговор. И отшептав Parain’а, я подошел к Church’у поздороваться и проститься – я чувствовал – в последний раз.
Он меня узнал. И – по глазам его – как добро смотрит (неужто вспомнил «авансы»?) – но мне ничего ведь не надо, но и ничего не забываю, – я низко поклонился: за себя, за «Mesures» – за всеми забытых чудесных гиппопотамов.
Я подошел к Barbara. Она все та же – тоже: и живая, и овеяна стихами. Хотел напомнить о гиппопотамах…
«А теперь – какие горькие годы! – вы можете писать стихи».
И на ее улыбку ответил за себя:
«Мне еще снятся сны».
Конь и лев *
Занозил себе лев лапу, а старец Герасим вытащил у льва занозу. И благодарный лев не только не захотел съесть старца, а в безмолвии, без всякого своего рыку, стал служить старцу.
В мясопустные дни лев служил старцу с утра весь день: и воду возил и все работы исполнял какие надо, и к вечеру водил коня на водопой и, напоив коня, приводил назад к старцевой избушке.
Так втроем и жили старец, конь да лев. Старец, видя такую к себе милость Божью, благодарил Бога. А лев, помня о помощи старца, изо всех сил старался угодить старцу.
Но каково было коню? Что чувствовал конь, когда лев водил его на водопой и обратно к избушке?
Был этот конь – добрый конь: рыжий с белым пятном на лбу. Просвет-конь звонко топал копытом, играл, а тут – тише воды, ниже травы: со львом-то жизнь какая! – ни тебе травы пощипать вольно, ни тебе побегать вольготно: лев так в оба и смотрит, а на уме – чуть что, и съест! (Ведь и человек, если что стараться очень начнет, и то жди – всегда наоборот, а лев – зверь!)
И уж вода не вкусна коню, и трава не сладка коню. И никто не знал, как трудно коню! Старец знал, для чего ему лев служит. И лев знал, для чего он, лев, старцу служит. А конь ничего не знал: для коня старец – Герасим, а лев – лев.
И про это тоже никто не знал – ни старец, ни лев.
И возненавидел конь льва, а пуще старца. И одного уж ждал конь и об одном – по-своему, по-лошадиному – творил Богу молитву и утреннюю и вечернюю: «чтобы освободил его Бог от льва, прибрал старца!»
Солнечный цыпленок *
Я богатый, таким я чувствую себя. Чего у меня только нет, одни сны чего стоят. И существую я на земле только чудом.
Под таким чудесным знаком особенно внушительно нынешнее поистине сенегальское лето, когда наши умеренные термометры лопались не на солнце, а в тени. В русском книжном магазине у Сияльского, так уверяла хозяйка, градусник поднялся до 100 – а и только за ночь под утро чуть опустился, чтобы вскочить – но выше не было никаких черточек, и осталось стоять «сто». Чудеса творились не только на земле, но и на небе. Все было неестественно и противоестественно: сливы в арбуз, виноград в сливу, а к дыням не подступиться – возили на тачках, отбивались от осиных пуль, величиною в зеленую «канаду».
В это чудесное лето, благодатное для меня и бедовое для соседей, – посмотрите, какие ржавые платаны, сколько гибнет всякий день собак, да и с людьми, нет вечера, чтобы сквозь безалаберную музыку я не расслышал жуткий гудок санитарного автомобиля, а наутро первое, что бросится в глаза, это знакомая черная драпировка на мертвецких дверях госпиталя; в эти ослепительные жгучие дни я, окруженный наверняка обещанными деньгами и не получая ниоткуда ничего, все-таки как-то прожил – или потому, что жарко и только хочется пить, а на еду не смотрел бы или, подлинно, чудо.
Это чудо совершалось не с одним мною, а везде, куда только падал луч солнца, над удачливыми и зеваками, над робкими и нестеснительными, и над теми, кому все дано, и над теми, у кого все отнято, над здоровыми и над больными одинаково.






















