Остров традиции
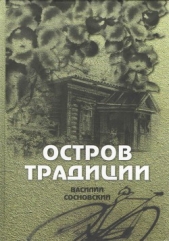
Остров традиции читать книгу онлайн
В стране, объятой гражданской войной, семья Клиров как ни в чём не бывало ухаживает за своим садом и поддерживает очаг «высокой» культуры. Однако лихолетье не минует и этот островок благоденствия – загадочным образом гибнет одна из сестёр Клир. Расследовать её убийство на свой страх и риск берётся потерявший себя интеллектуал Конрад Мартинсен…
Роман был начат в ноябре 1988 г., в самый разгар горбачёвской "перестройки". В нём нашли своё отражение споры и тревоги того времени. Но творившееся в те годы уже повторялось и может не раз повториться когда угодно и где угодно. Поэтому действие перенесено в вымышленную страну, название которой - аллюзия к есенинской "Стране негодяев". И всё же: внешние потрясения - лишь фон для потрясений во внутреннем мире героя. О том и речь.
Автор, истовый фанат великой русской литературы и великого русского языка, решился опубликовать своё детище лишь спустя 25 лет после возникновения первоначального замысла.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Говорили – раньше эти лучшие и достойнейшие на доске почёта висели, на веки вечные. Но когда однажды стекло на доске разбили, украсились их физиономии нехорошими словами, рогами и бородами, а иные портреты и вовсе пропали.
Землемера из купленной намедни книжки среди них не было.
Конрад сидел на лавочке, ждал директрису училища – она, как ему сказали, в гороно отъехала. Глядя на резвящихся во дворике типовых хамов и прошмандовок в форменных тужурках, он прокручивал в неутомимой башке один из последних базаров с Профессором. Немудрено – он касался народного просвещения.
Конрад начал тот базар с того, что школа – самое мифологизированное в Совке учреждение. Сознанию большинства сограждан рисуется какой-то мрачный Тартар, где церберы с указками в руках измываются кто во что горазд над беззащитными детишками.
– До определённой степени верил в этот миф и я, пока восемь лет назад сам не встал к учительскому столу, – признался Конрад. – Встал, в отличие от моих сокурсников, не по воле случая, не по капризу распределения (чего стоило мне, крепостному молодому специалисту вырваться с предыдущей столоначальнической работы, где по закону целых три года я должен был ждать Юрьева дня!) – нет, что называется по душевной потребности. Встал, исполненный самых наиблагих намерений: изо всех сил вытягивать сволочную школу из трясины коммунистического начётничетства, воспитывать подрастающее поколение в духе подлинного гуманизма, сеять… конечно же, Разумное, Доброе, Вечное. Я намеревался в каждом ребёнке видеть неповторимую личность, быть справедливым, участливым, улыбчивым, как рождественский дед. Я собирался изо всех сил любить детей и рассчитывал на взаимность.
– А ведь интересное то было время, – сразу вспомнил Профессор. – Время реорганизаций и концептуальных революций. Радетели «гуманистической педагогики» в пух и прах долбали дундуков-ретроградов из одиозной Академии педнаук. Шла широкомасштабная кампания по внедрению опыта «учителей-новаторов», нетрадиционных игровых методик, «педагогики сотрудничества». На одной представительной конференции под рукоплескания зала было даже принято постановление, запрещавшее учителям оскорблять и унижать человеческое достоинство детей.
– Увы, собравшиеся (сами, в массе своей, никогда не входившие в класс с журналом под мышкой) почему-то забыли принять постановление, запрещающее детям оскорблять учителей, – подхватил Конрад. – А также о том, что реальный рабочий день учителя должен быть не 12 – 14 часов, а восемь, как у других белых людей. И о том, что за свой кровавый труд учитель должен как белый человек получать. И о бесперебойном снабжении магазинов продуктами, коль скоро спецраспределители для учителей не предусмотрены. И ещё много разных хороших декретов забыли издать лучшие друзья совдепских детей. Между тем, дети не торопились становиться лучшими друзьями совдепских учителей. А почуяв единодушную поддержку широкой общественности, даже самые робкие и послушные паиньки ощутили себя зрелыми, неповторимыми, самодостаточными личностями, которым указчики и командиры ни в каком обличье не нужны.
– Увы, в общении с детишками одних пряничков мало – кое-где и без кнутика не обойтись. Тут я с вами согласен, – поддакнул Профессор.
– Буквально через месяц моего шкрабства это «кое-где» слишком стало напоминать «везде». Мои добродушные интонации дети всегда воспринимали не иначе как сигнал «встать на уши». В знак большого расположения они даже стали ставить мне на переменках подножки: свой парень, в доску свой… Безобидные попытки вывести детей из-за парт приводили к превращению «гуманитарного» кабинета в необорудованный спортзал. Игровые методики ни в коей мере не помогали овладеть вниманием класса. Современным малышам больше нравится пристенок с «кругляшками» на фантики от жвачки, чем турнир эрудитов на оценку.
– А потом, сколько я знаю, стали играть на «грины», на баксы… Разве опытные коллеги не объяснили вам, что лучшая методика – та, которой владеешь?
– Так я не владел никакой. Рутинные, но испытанные многими поколениями методики давали совершенно идентичные – плачевные – результаты. И вследствие своей полной организационно-педагогической беспомощности рождественский дед быстрыми темпами стал превращаться в фельетонного совкового шкраба-держиморду, злющего цербера. Уроки напролёт мне приходилось лаять и кусаться. Вот только на результатах это почти не сказывалось. Меня стали ненавидеть, но манкировать не перестали.
Воспоминание 3 (8 лет от роду). Невыспатый и голодный препод иностранной мовы Конрад Мартинсен старается переорать развесёлый четвёртый «В». Да-да, ему противостоят не усатые, плечистые десятиклассники, а скопище десятилетних шмакодявок чуть выше парты, тонкошеих октябрят. У доски, не обращая особого внимание на учителя, канителится двоечник Унцикер из многодетной семьи алкашей. Он вполуха слушает вопрошания и настойчивые призывы повторить фразу «This is a pen», после чего нехотя изрекает язвительно: «Сиси пен». – «Сиськи-масиськи», – отзывается с места его закадычный друг Вебер, парень сообразительный, но неуправляемый, и на радостях швыряет в Унцикера комком бумаги. Унцикер ловит и бросает назад. Класс гогочет и улюлюкает. Учитель орёт что-то типа «Keep silence», но его сиплый голос тонет в звонком оре класса. Тогда Учитель за руку вытаскивает Вебера из-за парты и затыкает его в угол. Оттуда Вебер строит такие умильные рожи, что класс грохается от смеха, и пока Конрад пытается спрашивать кого-то с места, Вебер покидает предписанное ему место наказания и за спиной Учителя обменивается дружескими тумаками с Унцикером, после чего пускается волчком по всему кабинету и кричит классу «Хошь, анекдот расскажу?»
Учитель Конрад с трудом излавливает неслуха и волочёт к доске. А там прыгает на одной ножке уже позабытый Унцикер. «Повтори, что я только что сказал!» – переходит на ридную мову горе-педагог. «Сиси», – громко откликается Вебер, которого Учитель крепко держит чуть выше локтя. «Сиси», – гордо повторяет Унцикер к всеобщему восторгу класса. – «Я серьёзно», – истерит Учитель». – «И мы серьёзно», – отвечают Вебер с Унцикером.
– Бумс! – Учитель в сердцах сталкивает Вебера с Унцикером лбами, после чего руки его отпускают обоих охламонов и бессильно повисают. Охламоны опрометью бросаются вон из класса, под смех и топот всех прочих. Учитель запоздало кидается вслед беглецам – по инструкции учеников ни в коем случае нельзя выгонять из кабинета, мало ли чем они займутся в коридоре? – итак, Конрад, бросается вслед, но задевает своим копеечным свитером за дверную ручку, рукав смачно трещит и рвётся. Класс от восторга неистовствует. Урок – если это действо можно было назвать уроком – окончательно сорван.
– И так детки вели себя изо дня в день, из класса в класс. И только у меня, – продолжил рассказ Конрад. – Ребёнок даже в потёмках распознает мягкотелого и бесхребетного, сколько бы тот не добавлял металла в голосе и грохота в топаньи ногами. И поневоле приходилось мозговать: уж если эти первозданные, «естественные», не обременённые жизненным опытом существа откликаются на силу (пусть не только физическую) скорей, чем на добро, значит… Не успел я додумать эту мысль до логического конца, как грянул гром. Вебер пожаловался папе, что у него-де головка болит и объяснил, почему. Вебер-папа незамедлительно обратился в прокуратуру.
– А вы как же? Вы-то кому надо пожаловались?
– Беспощадная совесть тут же крепко сцапала меня за шиворот и потащила на покаянную исповедь – в кабинет завуча. Завуч был милейший «интеллигентнейший» человек, фанат своего предмета, знаменитый на всё гороно методист. Старый добряк схватился за голову: «Без рук, понятное дело – никак, но надо же знать – кого! Посмотрел бы в журнале: у Вебера папахен-то – журналист…» Действительно, через пару дней о моих зверствах написали в газете, а ещё через день меня с пристрастием допрашивали. За рукоприкладство могли дать до года, и не факт, что условно, но я ни словечка не молвил в защиту своей шкуры: я не сторонник битья детей и был готов понести заслуженное наказание. Спасибо дружному педколлективу – отстоял, взял на поруки (все знали цену и Веберу-младшему и учительскому хлебу). Сердечно отблагодарив добрых моих коллег, я кое-как домучился до конца учебного года и – подал заявление об уходе.

























