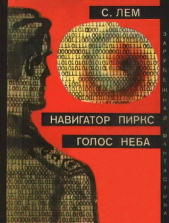Просто голос (СИ)

Просто голос (СИ) читать книгу онлайн
«Просто голос» — лирико-философская поэма в прозе, органично соединяющая в себе, казалось бы, несоединимое: умудренного опытом повествователя и одержимого жаждой познания героя, до мельчайших подробностей выверенные детали античного быта и современный психологизм, подлинно провинциальную непосредственность и вселенскую тоску по культуре. Эта книга, тончайшая ткань которой сплетена из вымысла и были, написана сочным, метафоричным языком и представляет собой апологию высокого одиночества человека в изменяющемся мире.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как неожиданно и остро вдруг хотелось быть взрослым, серьезным, уметь без усилий расставлять слова в таком вот нужном разговоре, умно и независимо жить, не боясь позабыть урок к вечерней встрече с отцом, твердо знать, кому и что положено делать, с кого спросить и кому изъявить укор. Ночью в постели, натешившись теневыми фигурками из пальцев в пепельном зареве лампы, я дотошно вошел в положение воображаемого Глабрия, дал пару дельных советов по кирпичному ремеслу, чтобы ему уже не робеть о будущем, а заодно позвал жене врача и лично проследил, как он уснащал банками податливую жирную спину этой женской гусеницы.
На играх был обычный крик, топот и лязг колесниц. Я уводил глаза с пыльной беговой дорожки и разглядывал женский сектор, но уже не видел там матери — это был наш первый выход без нее. Я сидел рядом с Артемоном, визжавшим заливистее иной кухарки, и пытался воскресить неслышный шепот моря, зная, что имею власть и надо только научиться. Синие, как я им и велел, пришли вторыми.
Мой первый наставник, однако, стоил большего, чем видно из этих запоздалых насмешек. Излишняя внешность, обычная в подобных персонажах, не отменяла в нем широты познаний и даже некоторого ума, хотя и притуплённого за годы прежних скитаний и скудного купеческого странноприимства. Этот сухой побег асиатского оазиса, спустивший себя за полцены, на диво у нас укоренился, стал вполне своим, а для меня, знавшего его с рождения, в те годы и вовсе не было человека ближе и нужнее, потому что Юста была слишком очевидна, а отец, с кончиной матери любимый еще больнее, жил как бы за пологом загадки, как бы в тени гневной и неминуемой грозы, медлящей разразиться. Мы все понимали, что этому гневу не до нас, но не забегать же под острие занесенного копья.
Артемону это было тем более ясно, что в истории с Аристогитоном ему уже случилось напороться, то есть быть выпоротым; и не то обидно, что без вины, а что именно ему, отличенному среди прочих статусом философа, ровне управляющему, выпало такое печальное исключение. Обыкновенно отец был даже нарочито великодушен, и если пристрастен, то в выгодную для виновного сторону, отчего по всей колонии ходили завистливые слухи о «людях Лукилия» как об отпетых лодырях и лотофагах, а сами они не видели выгоды перечить этой заведомой неправде и даже, наверное, похвалялись перед дружками в тавернах избытком досуга.
Искупая приступ несвойственной строгости, отец после злосчастной порки, а особенно после гибели Гаия, связавшей близких ему незримыми узами печали, удвоил и без того щедрые милости Артемону, который мог теперь без особого убытка трижды себя выкупить, но экономил, уповая на вольную по завещанию, хотя был не из юношей. Первое время он еще не забывал поджимать губы и упирать очи долу при появлении хозяина, источая всем существом такое смирение паче гордости, такие приотворяя бездны уязвленной добродетели, что было непросто пройти мимо уморы, не покатившись в хохоте, хотя мы и сдерживались, чтобы не усугублять сцены достоинства. Он повадился также, подкараулив отца в радиусе слышимости, нарочито внятно внушать мне какой-нибудь подобающий стих, и я уже дискантом разносил его по гулким комнатам: «Верности ругань у них, а кротости — плеть воздаянье».
Одурев от негаданного богатства, он обзавелся слугой, мальчишкой в лишаях, которого обрядил в философские обноски со своего плеча и даже кое-чему обучал в часы моего досуга. Обычным же занятием этого студента было таскание за нами свитков, когда в жаркие дни мы уединялись в рощице над карьером. Буквы я выводил на песке или, послюнив палец, на пыльном сколе скалы — воск на дощечке плавился и подтекал на солнце.
Там, в тени худосочных платанов и диких маслин, брошенных небом белому камню на скромное сиротство, в горячем безводном воздухе, который память пронзает остановившимся, как бы стеклянным полетом шершня, протекало мое первое воспитание, пока плешивый Сабдей, обливаясь вонючим недетским потом, истреблял по расщелинам ящериц. Там Ахилл, повздорив с Агамемноном из-за пленной девки, затевал свой исторический скандал, подразумевая еще более ранний, но примерно на ту же тему, между Парисом и Менелаем, а затем, через годы обоюдной отваги, на фоне живописного пожара, пращур Айней с ларами в багаже прокладывал путь к берегам неизвестного Тибра. Там Нума определял законы, Брут мечом учреждал республику, а Фабий Кунктатор, избегая поступков, спасал ее от происков деятельного иностранца. Там сердитый кенсор Катон, положив жизнь на искоренение пагубной греческой премудрости, на склоне дней шел на мировую и внимал чуждым спряжениям в устах поэта-полукровки.
Словно Катон наоборот, я изучал латынь по Эннию. Для Артемона последние полвека латыни были только мгновением в жизни языка-однодневки, досадной помехи, крадущей внимание у Пиндара; к тому же он принимал всерьез лишь то, что заучил издавна, что было освящено авторитетом столпов Тарса или Родоса, или где он там набирался своего единожды и навек выкованного глубокомыслия. «Чего не было — того не существовало», загадочно признавался он, и мне было нечем крыть, я покорно уступал дивно прозрачной мудрости учителя. К списку несуществовавшего были, видимо, отнесены и Двенадцать Таблиц, этот бич и язва римского ребенка. Здесь, к выгоде педагога, скажу, что он никогда не пытался втолковать другому то, чего не понимал сам, хотя эта слабость, на мой уже теперешний, более зрелый взгляд, одна из самых свойственных. Все эти замшелые обороты похотливых юристов древности, по-видимому, будили в нем священную гадливость — полуграмотные изыски глинобитных местечковых мудрецов в глазах легионера культуры с вещмешком вековых знаний. Когда отец, кивая на традицию, рискнул попенять Артемону этой прорехой в моем круге чтения, тот имел смелость спросить о значении одного-двух темных мест в документе, и отцу осталось лишь развести руками. Итогом неохотного компромисса были для меня несколько вечеров зубрежки в портике, головная боль и пригоршня оброненных цитат вразброс — успокоить родительское подозрение, что римского мальчика лишают наследия предков.
«Ну-ка, удиви!» — настаивал отец, целуя меня и ставя между колен, и я послушно докладывал о том, как «нам в одиночку сберег республику бдительный муж». Я стоял с достоинством, не ерзал, хотя на дворе, на убитой пыльной поляне, нетерпеливо кривил рот загорелый голый мальчик Каллист, косясь на две кучки орехов, из которых большая была моя. Я рано понял, что взрослые ждут от нас преданности и прилежания и что, изобразив на лице эти простые чувства, скрывшись за ними на короткое и неизбежное, раз уж живешь ребенком, время, можно получить массу выгод, и незачем им знать, что хватаешь их легкую науку на лету, что сами они напрасно выросли и важничают. Будучи, наверное, не глупее брата, бросившего на произвол, я обошел его по части стратегии и старался до времени не выводить резерв. Взрослые и без того прожужжали друг другу уши, пока мои не дремали, о пропрайторском сучонке, моем ровеснике, который еще читал по складам и ходил под себя, и при нужде, чаще на форе или за звучными поцелуями с цветом всадничества у театрального портала, я потакал отцу, без тени понимания извергая громоздкие куски из Квадригария.
В подступившем будущем, на поросшем мрамором бугре у Тибра ненавистный нам старец освятил храм Марса Мстителя — невесть откуда явленное ему диво, звук олимпийской музыки в камне, цену неотмщенной крови. С Родоса в негаданной надежде поспешал претендент, сумеречный пытатель звезд и птиц. Суеверная Юста со слов еврейки-бакалейщицы сбивчивым шепотом рассказывала о царственном младенце в Палестине, пророке и судье, который сокрушит власть Палатина и утрет слезы страждущим; ее непомерная грудь перекатывалась тирренскими волнами под рыжей туникой, а отец, упирая в сторону безумный, остановившийся взгляд, тонко улыбался в усы — он уже отставил от себя постылого цирюльника и нередко выходил в греческом платье. Затевалась осень двенадцатого года моей жизни.