Окна в плитняковой стене
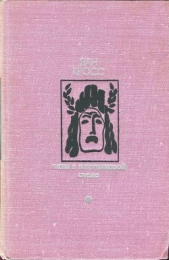
Окна в плитняковой стене читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Все расходятся, только Анита и этот Петерсон остаются стоять посреди комнаты. И я тоже. Анита делает шажок, наверное, для нее самой невольный, в мою сторону. Анита — милый ребенок. Она, правда, некрасива. Слишком прозрачна. Но у нее прекрасные темно-серые глаза, и сейчас она именно в том возрасте, когда перед тобой то кроткая девчушка, то вдруг за словом в карман не лезущая взрослая девчонка. Она делает едва заметный шаг ко мне. И я знаю почему. В этом доме, где так много людей, она чувствует себя одинокой. И с полным основанием. Ибо сестры отдалились от нее. Все из-за той симпатии ко мне, которую она не прячет. И еще больше из-за заботы, которую я проявляю к ней. А Отто?.. Отто старается быть одинаково справедливым ко всем дочерям и со всеми время от времени сердечным (время от времени, как я говорю), но в общем он безразличен и ему до них мало дела. У него попросту нет времени для дома (хотя, когда уезжает, каждый день находит время, чтобы писать, странный человек…) Так или иначе, но Анита в этом доме одинока. Она не видит тепла, кроме того, которое существует между мною и ею. Может быть, с моей стороны даже чуточку в укор тем, остальным… И сейчас она делает шаг ко мне. А я делаю шаг в сторону этого мальчика, он стоит возле цветочного столика и теперь смотрит на грязь, которую оставили на стекле Оттовы небесные камни. Я делаю шаг в его сторону. Ибо и он не должен чувствовать себя одиноким в незнакомом ему, запутанном доме. Очевидно, он пришел к Отто по какому-нибудь литературному поводу. Как сюда многие приходят. Едва ли он из Тарту приплелся сюда пешком из чистого любопытства. Впрочем, и это здесь весьма принято. Нет-нет, он здесь явно по делу. И сейчас в этом чужом доме он чувствует неловкость.
Я подхожу к нему. Мне хочется спросить, кто же он на самом деле. Мне хочется, чтобы он еще раз взглянул на меня своими синими, как лепесток синецвета, глазами… И прежде чем я успеваю что-нибудь сказать, он уже смотрит мне в глаза, и я чувствую (святой Дженнаро, я ведь, можно сказать, старая женщина, нет, нет, разумеется, не в прямом смысле старая, но женщина, так много повидавшая в жизни, в мире, видевшая стольких людей, которая не смеет теряться от синих глаз мальчика непонятного сословия!), я чувствую, что снова начинаю краснеть… В отчаянии я пытаюсь смотреть куда-то в сторону, на что-нибудь другое, только не в эти горячие, бездонно-синие мальчишеские глаза. Я смотрю вниз и вижу (и не вижу) возле столика горшок со змей-травой, который Отто поставил на пол (никогда он не кладет ничего обратно на место!), и этот мальчик следит за моим взглядом и с какой-то неуклюжей ловкостью поднимает цветочный горшок с пола и ставит его на стол.
— Так?..
— О да! — Я почти вскрикиваю от облегчения. Ибо я разом поняла, что мне надо сделать. Я говорю:
— Анита, будь добра, покажи господину Петерсону наш пасторат. Только надень пальто, чтобы не простыть. Анита у нас часто кашляет…
— Я тоже, — говорит этот мальчик, смущенно улыбаясь, и ловит мой взгляд, так что мне снова приходится смотреть в сторону.
— Ах, вы тоже? Анита, покажи господину Петерсону озеро и парк, и лодочный причал. И церковь, если он захочет посмотреть ее изнутри. Ключи, ты ведь знаешь, висят в сенях на гвозде. Но по озеру ты не катайся! Если господин Петерсон пожелает — молодым людям иногда хочется покататься, — то он, разумеется, может. Все равно на какой лодке. И возвращайтесь к десяти часам. Анита, ты ведь знаешь, что отец очень сердится, если ты не упражняешься на скрипке. А если господин Петерсон захочет что-нибудь почитать, то библиотека вот там, за этой дверью. Я потом покажу вам. А сейчас мне нужно…
— Да. Конечно, сударыня, большое спасибо. До свидания. Значит, пойдем любоваться природой, барышня…
— Меня зовут Анита.
— А меня — Яак.
Меня — Яак, — говорит этот мальчик, и мне почему-то становится даже жутко. (Только в этот момент я узнаю, как его зовут.) Но вздрагиваю я, в сущности, от того, что… Понятно, что Анита называет ему свое имя, она же ребенок, но я как-то не понимаю, почему ей в ответ он тоже называет себя Яак… (Очевидно, он — эстонец, учившийся в университете. Господи, вот это интересно! Откуда он взялся?.. Такие ведь редко встречаются! Яак… Всякий более или менее образованный человек на его месте сказал бы: Aber ich bin Studiosus Jacob Petersohn [183].
— Да, я уже слышал, что Анита. Красивое итальянское имя. Анна на древнееврейском языке означает любовь. В Италии говорят Анита. Ведь ваша мама…
Они проходят через веранду.
Этот мальчик, само собой разумеется, считает тринадцатилетнюю Аниту моей дочерью… Его наблюдательность небезупречна, хоть он и знает, что Анита по-древнееврейски значит любимая… И хоть он и пропускает Аниту вперед, но не видит, что нужно помочь ей надеть пальто… Мне немножко жаль, что это так, и чем-то приятно…
Но теперь мне нужно… что же, собственно, мне теперь нужно? Господи, да мне самой все же нужно по-человечески одеться!
Я быстро иду сюда, в спальню. Я даже запыхалась. Святой Дженнаро — что же это со мной?! Я смотрю на себя в зеркало, в то самое трюмо в извивающейся раме, и от радости готова смеяться! Конечно, моя кожа покрылась летним загаром от стряпни во дворе, от хождения по полям, но моя природная смуглость, столь здесь редкая, проступает даже сквозь загар и сейчас, когда у меня пылают щеки, придает лицу особую выразительность… И я радостно спрашиваю себя, хитря и притворяясь непонимающей: что же это со мной?!
Я раскрываю гардероб. На какой-то миг застываю в испуге. Как большие темные птицы, висят передо мной три сюртука Отто — серый, коричневый и черный… как три огромные, пахнущие табаком птицы, три мертвые птицы… Уф!.. Потом я начинаю перебирать свои девять платьев, это очень просто, гораздо проще, чем мне хотелось бы… Три платья — уже старые домашние тряпки, три других — слишком темные, зимние, а сейчас ведь еще, можно сказать, лето!.. Все-таки лето. Из оставшихся трех серое прюнелевое я сразу же отвергаю, оно мне надоело, слишком часто я его ношу, а сегодня мне хочется надеть что-нибудь менее будничное… От вечернего платья из голубого шелка после минутного размышления я все же отказываюсь. Оно оставляет открытыми плечи и грудь, и на юбке три венка искусственных цветов… И от этого… И наконец последним остается (глупо, конечно, говорить наконец, если у тебя всего пять пристойных платьев, а, например, у госпожи курсиской Шуббе — муж которой далеко не пробст! — их по меньшей мере дюжина. Знаю, знаю, что это совсем неважно… но что правда, то правда). Так что последним остается прошлогоднее венское платье с короткими рукавами-буфами из желтого шелка в крупную клетку, которое тоже не закрывает плеч, и на его квадратном декольте венок искусственных чайных роз. Но нет… это тоже слишком, сегодня это тоже слишком… Гм… Но для чего же я тогда вообще сделала себе это платье, выпросила его у Отто (особенно выпрашивать, правда, не пришлось… но все же… Как тоскливо сжалось сердце, но вот уже и прошло), для чего я вообще сделала себе это платье? Чего ради мне нужно было стерпеть, когда год назад наши пасторши сочли это платье на супруге пробста почти что распутством… так что я осмеливалась надевать его только в присутствии Клингера и Жуковского, так же как и то, голубое, в котором в Экси я ни разу не решилась появиться… Но сегодня здесь, дома, и это желтое все же слишком… Нет, отчего?! Если мне однажды захотелось немного блеснуть здесь, среди лесов и полей и этих стен…
Я снимаю желтое платье с вешалки, прикладываю его к себе, смотрю на себя в зеркало и напеваю (может быть, я уже заразилась рифмоплетством от Оттовых виршей — он время от времени читает их нам, домочадцам), я мурлычу какую-то крейцеровскую мелодию, но на свои слова:























