Окна в плитняковой стене
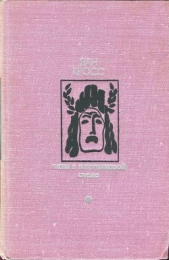
Окна в плитняковой стене читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Горбатый мост с белыми крашеными перилами над дамбой. Налево в парк ведет песчаная дорожка. Направо, за живой изгородью, — длинные каменные хлева (наверняка не меньше, чем на пятьдесят животных) и громадные конюшни (по крайней мере для двух дюжин лошадей). Потом эта самая мельница, где клокочет вода, скрежещут жернова и пахнет мукой, в окно видно, как в мучной пыли усердно старается мельник со своими подмастерьями. Второй мост — по существу мельничная плотина, по которой идет дорожка, огороженная перилами. Вода серого озера Саадъярв на плотине и в водоворотах зеленая, пенистая и быстрая. Дальше виден каретник, в его открытых воротах в полутьме сверкает позолотой (господи, уж не сам ли господин губернатор Паулуччи приехал в Экси в гости к пробсту проведать свою соотечественницу — супругу пробста?!) такая карета, что… Впрочем, Байер ведь говорил, что господин Мазинг будто бы купил карету у какого-то английского адмирала…
И все же господин Мазинг все поймет.
Уныло глядящая церковь. Там, за двойным рядом елей. В утренней прохладе издалека видно, что ее белые стены насквозь холодные. Теперь от высокого берега реки начинается тропинка, она ведет прямо на круглую дорожку перед господским домом. Посредине кольца — группа высоких желтеющих лиственниц на фоне серого неба. Между лиственницами и застекленной верандой — стеклянный шар на толстом столбе, отражающий с одной стороны дневной свет, а с противоположной — утренние огни в доме.
И все же господин Мазинг все поймет. Иначе какой же смысл был бы идти к нему!
В освещенных окнах силуэты сидящих за столом. У него там целое общество собралось. Байер сказал, что у него всегда множество гостей. Бог с ними. Меня они не касаются.
И все же он все поймет.
Теперь вдруг лампу в столовой погасили. Ну да, ведь уже давно рассвело. Желтевшая внутренность прозрачного дома сразу пропала за синеватыми стеклами, в которых отражается серое небо… И все же господин Мазинг все поймет! Несомненно поймет! Должен же быть хоть кто-нибудь, кто поймет!
Ох, кое-что понимают все. Само собой разумеется. Байер тут же сказал: «Ой-ой! Это же прямо папа Клопшток [178] persönlich!»
А Теодор сообщил своему приемному отцу: «Он написал несколько од, судя по которым можно даже сказать, что это Пиндар эстонского языка!» И домашние мои тоже кое-что понимают, когда я им иной раз читаю что-нибудь вслух. Батюшка даже трубку изо рта вынул, когда я прочел им:
А мать аж заплакала в голос в тот сентябрьский вечер в прошлом году, когда я ходил их проведать… Окно было отворено, алело небо над крышей церкви Якоба, и на ее башне кричали галки. А мать уже взялась за спицы, чтобы вязать мне фуфайку. Теплую фуфайку из-за этого настырного кашля. И она в голос плакала, когда в их сумеречной комнате я читал:
Матери — они удивительные… Ну, с чего это она?.. Выходит, по-своему каждый что-то понимает. Но до конца — язык, и стих, и ритм, включая то самое, что во всем этом должно таиться и чему нет названия… От Пиндара до а-ла-лу-ла-ло выйдумааских пастухов… Кто до конца поймет все звуки моей музыки, все мои усилия целиком — кто? Ни одна душа! Честное слово! Разве Розенплентер способен понять? Нет, хотя ему и принадлежит честь быть лучшим знатоком языка. Ибо он и есть только знаток. Он бы сомневался и обдумывал, правильные ли у меня флексии, и чесал бы затылок по поводу инессива [180], который у меня не такой, как у пярнусцев… А Кнюпфер? Он мог бы мне сказать, подлинны ли мои пастушеские аллитерации (по-видимому, сказал бы, что нет!). Но оценить все в совокупности, все во всех отношениях, этого бы они не сумели. Как странно, язык существует (и какой язык!), народ существует и песни существуют, но нет человека, который бы все поставил на место… Кроме одного-единственного… Слава богу, что он все же есть…
Ах да, но и Мазинг будто бы сказал нечто критическое по поводу моих маленьких переложений из Анакреонта [181] (ведь Розенплентер писал мне), и поэтому «Бейтрэге» пока их не напечатали… Ну что ж, пусть так… Это же были такие незначительные попытки. Напрасно Розенплентер послал их ему. И я напрасно посылал их в Пярну… Помню, как они возникли… Я еще учился в гимназии, в приме. Карл как раз в эту минуту читал мне мораль. Что я непростительным образом пропиваю дарованные мне богом таланты (случилось, что я и в приме другой раз прикладывался к пиву). Поздно вечером я пришел к Карлу и попросился к нему ночевать… чтобы родители не видели, как у меня блестят глаза и пылают щеки, и не почувствовали пивного запаха. Это бы их очень опечалило. Карл жил возле самой реки, снимал комнату в доме одного торговца рыбой, поэтому у него было в этом отношении вольно… Карл впустил меня и тут же принялся читать мне мораль. От его крохотной железной печурки шел жар, и выпитая бурда сразу же ударила мне в голову, я услышал шорох крыльев Нике, и меня обуяло снисходительное превосходство захмелевшего человека. Тут мне пришли на память маленькие стихотворения Анакреонта. Я придвинул к себе лежавший на столе перед Карлом лист бумаги (он рисовал на нем обнаженных женщин), перевернул его на другую сторону и, поскольку в греческом Карл был не силен, хотел написать ему по-немецки: Alle Acker trinken… [182] и так далее. И вдруг подумал, зачем, собственно, мне писать по-немецки, ежели он весьма пристойно умеет болтать по-эстонски, и я то и дело, чтобы подразнить его, заговаривал с ним на эстонском языке?! И ежели эти стихи никто еще не пытался переложить на наш язык! Помню, что зажмурился и почувствовал, как кровь стала сильнее пульсировать у меня в запястьях и в голове зашумело. От воодушевления даже лицо стало пощипывать. Будто у меня самого начала расти рыжая бородка древнего Анакреонта… Я взял перо и написал:
Потом я снова перевернул листок с нарисованными Карлом голыми грациями. Они меня чем-то задели. Наверное, потому, что мне было одновременно и стыдно и сладостно на них глядеть, ибо они были удивительно умело и с большим знанием изображены, хотя скорее походили не на граций, а на больдеравских банщиц. Так или иначе, но и другие маленькие стихотворения Анакреонта в тот же миг пришли мне на память, и поперек нарисованных Карлом голых животов я написал:
И далее…
При этом я думал (только совсем про себя) о том пламени, которое обжигало меня, как только я начинал думать о женщинах… Но я-то, в сущности, не знал ни того, что этим хотел сказать Анакреонт, ни того, за что господину Мазингу угодно было упрекнуть мои строфы. Ах да: что у нас все ужасно рано хотят быть ужасно зрелыми! Примерно так он сказал, как я понял из письма Розенплентера. Ха-ха-ха-а! Господин пробст, очевидно, не обратил внимания на то, что имел дело с Анакреонтом, а не со школьником… Ибо сам-то он умеет ценить хороший напиток. И про его молодую жену Байер сказал, что она у него… как же он сказал?.. черная виноградинка в можжевельнике!























