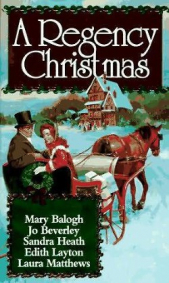Действия ангелов

Действия ангелов читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Юрий Екишев.
Действия ангелов.
Повесть
Смерть во сне
Тайга многое прощает. Так же, наверное, как война, дорога, горы. Так же, как и мы должны бы. Это я открыл для себя в пятнадцать лет. Про людей, войну, горы и дороги — это взято из книг, а про тайгу — я сам, хотя папа говорил мне про нее, но так мне кажется, что это я усвоил своим затылком, своей шкурой, начавшей что-то чувствовать к пятнадцати, ерошиться от любого прикосновения.
Я ждал этого открытия, как какого-то сбывающегося пророчества. После смерти папы его брат, мой дядя, три раза приезжал за мной из города, чтобы забрать с собой, и я всегда прятался в лесу, бродил с ружьем и собакой и ждал, когда же он уедет — украдкой выходил к утреннему тепловозу и ждал — не отбудет ли мой любимый бестолковый дядя, такой же взбалмошный, как и сама городская жизнь, — приехав в поселок, он начинал метаться по всей родне, по всем, кого оставил, променял на городскую жизнь, как вихрь, — были бы у нас такси или ресторан, он бы непременно от одного к другому летал на такси, заглядывая с развевающимся на груди галстуком в буфет или ресторан, — я не хотел быть таким. Для дяди это было естественно, а для меня было предательством — жить вот так. Мой папа всю жизнь боролся с этим и в этой войне погиб — он сильно пил и очень страдал от этого, и все-таки хотел не пить, но оказалось — водка не прощает, он очень быстро сгорел от войны, в которой я не смог ему помочь: надо было сломать в себе столько и победить всего себя — и он мучился, и держался, и плакал, и говорил мне всякое о тайге, — и сердце его остановилось.
Так мы с мамой остались вдвоем, в глухом северном приуральском поселке, буйном и диком в дни получки или какого-нибудь праздника. Но в общем-то почти всегда мирном, как и не очень далекие горы — такие старые и изъеденные, что казалось — они-то и есть самое мирное и беззащитное на всем свете. Дорога была одна, узкоколейная, не считая никуда не ведущих зимников. Когда мне исполнилось пятнадцать, она была уже изъедена и источена колесами так же, как и горы и люди в нашем поселке. Раз в день тепловоз возил людей в лес, где они еще что-то делали, хотя не верилось, что люди в прожженных ватниках, промасленных пятнистых штанах, бесформенных шапках, эти люди, изможденные и источенные куревом, матом, комарами, — способны еще что-то совершить.
Еще недавно тепловозов было два и на каждом работало по одному машинисту — братья Мишка и Егор. Егор был постарше, и его тепловоз был помощнее легкого Мишкиного тепловоза-подростка, вечно в черных мазутных соплях.
Однажды они выехали одновременно с Шестого. Шестой — это километр, на котором идет разделка леса. На дороге все меряется километрами: двадцать второй — болото, клюква; тридцать девятый — старый мост, разобранная дорога; сорок седьмой — дорога на город, возможность продать проезжающим хоть что-нибудь: клюкву, картошку, беличьи рукавицы. И возможность уйти, уехать и не оглядываться.
Так вот — Мишка отцепил состав с хлыстами на Шестом и, увидев на соседнем пути важно шествующего Егора, почему-то надбавил ходу, юркнул вперед по стыку на развилке и помчался по крутой дуге, которая вскоре опять должна была пересечь главную ветку, по которой шел Егор. На несколько мгновений они разошлись — их разделил лепесток леса между путями, и Егор дал полный газ, даже не смотря в ту сторону, где сквозь редкие тонкие стволы мелькал Мишкин чумазый конек даже без названия — вернее, были только буквы и цифры: ЧМЭЗ или что-то в этом роде, некрасивое, что именем назвать никак было нельзя.
Всё решили секунды и сантиметры. Егор первым властно и спокойно надавил на перекрестье рельсов передвинутой стрелки, тем самым забрав себе дорогу, и Мишкин тепловоз только скользнул ему по скуле и, будто игрушечный, легко завалился в кювет.
— Пускай полежит. Я же прав — моя главная, — только и сказал Егор и, не замедляясь, поехал дальше.
Дорога многое прощает, а люди нет, но я не об этом. Мишкин тепловоз в конце концов подняли, он еще проездил какое-то время, но что-то началось в людях, и его сначала поставили на прикол, а потом и вовсе забросили на разбор, как будто потушили костер и очень быстро остались одни головешки. Егор и Мишка стали ездить на оставшемся тепловозе по очереди, но все реже и реже — когда бывало топливо. Ездили уже бережно — дорога их пока терпела, но заставляла беречь каждый поршень, трястись над последними кольцами и клапанами.
Егор совсем вымотался. Дорога становилась все хуже с каждым разом, выпирали все новые дорожные ловушки, а люди становились все безразличнее и злее и плевали уже на дорогу, хотя без нее не могли бы выйти из тайги поближе к городу или большому селу. Смысла набирать грибов и ягод больше, чем нужно на год семье, не стало. О поездках стали договариваться — кричали, ругались матом, бабы плакали, что детям нужно к врачу, — во всем появилась какая-то смертная сила, очень хорошо организованная, противостоящая хаосу жизни, поначалу проморгавшая, как из ничего, очень странно, возник наш поселок — из сосланных людей и вещей. Мы все росли среди тех, кем нас пугали, — среди детей бендеровцев и полицаев, эсэсовцев и “зеленых братьев”, православных и “правдоискателей”. Мы росли среди сосланных книг — в библиотеке были Достоевский, Бунин, Ремарк, испещренные, как наколками, синими штампами и угрожающими красными словами… Про горы, про прощение — оттуда. Оттуда же я взял и про свиней, павших в море, или еще только стремящихся туда — меня это просто поразило у Достоевского, хотя у Гоголя про свиные хари было гораздо красочней. Я только потом узнал, это всё из Евангелия. Странно, у Гоголя было и ярче и красивей, но как-то далеко — я не видел кругом свиных рыл. Конечно, я въяве не видел и достоевских бесов — но почему-то эта картина была чуть ближе, чуть яснее, будто виделась в сердцевине фокуса линзы, и не слишком далеко и не слишком близко.
Конечно, занудность и неимоверные для моего разума длинноты предложений или ситуаций делали мое тогдашнее чтение почти бессмысленным. Книги были бесконечными, но все же с ними, с такими нудными и изношенными, было легче, чем вообще ни с чем. Играли мы немного: на всех лежала печать — кругом тайга, и надо выживать, и она, матушка, конечно, многое выживает из себя, как будто кровавым потом, исходит ягодами ради нас — но пойди к ней и поклонись за это каждой ягодке, грибу. Каждый день что-то надо собирать: мох, веники для бани, травы — каждый день, чтобы он не вонял мазутным бездельем.
То обжигающее место, на котором однажды для меня вдруг сошлись, как в фокусе, и жизнь, и смерть, и “Бесы”, и какая-то тоска в груди, — тоже оказалось в тайге. Я его нашел уже после того, что случилось, и точно определил — вот оно, именно здесь.
Когда я его нашел, то обошел внимательно, как грибник, запоминая смятый мох, изгибы дерева, все свежие раны на его теле.
После той паровозной дуэли Егор так и не затормозил, как-то внутренне и очевидно для всех его понесло, и он уже не мог остановиться сам. Дух у него был какой-то странный, как будто он горит. Поселковые грешили, что это он с голодухи на мясо — потихоньку сводит собак у охотников, оттого так загорелось у него внутри, оттого он так гордо и ехал тогда. Но мы-то знали, что с собаками — это не его работа. Поселковых собак сводили туберкулезники из кочегарки — это мы знали досконально: видели, как они втихомолку их выманивают или отлавливают, как свежуют, а затем потребляют. Все мы видели от начала до конца, всей поселковой шайкой, собираясь сначала сами порешить кочегаров за это, но потом все же убоялись чего-то мистического, чем пах подсмотренный через щель заколоченных фанерой окон кочегарки тот ночной чужой ритуал. Себе я говорил, что это вот и есть безумные Лебядкины такие, или трусоватые Лямшины, шляхтичи, жгущие Тараса Бульбу, — вот они, наяву. Но вмешиваться никому из нас по-настоящему не хотелось, только на словах. Пару раз мы пытались что-то вякнуть хозяевам, потом уже, после того, как они, покашливая и притворяясь кочегарами, запросто договаривались и потихоньку уводили со двора бедную псину на веревке неизвестно куда. Но хозяева только махали рукой — они ли, волки ли, которые обнаглели уже до крайностей. Эти таскали собак без предисловий: один подвывает, подначивая залаять, выманивая, а в это время двое-трое других молча пробираются в поселок и первую же тявкнувшую суку закидывают себе на загривок, и — всем привет. Это по-ставрогински, думал я, — очень четко.