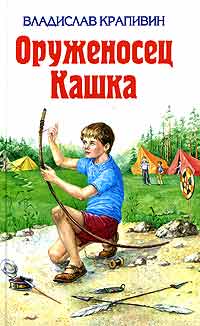Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою
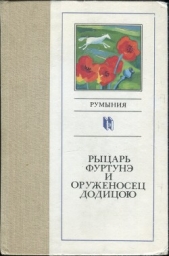
Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою читать книгу онлайн
В сборник «Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою» входят рассказы румынских писателей 70—80-х годов о прошлом и настоящем Румынии, психологические, сатирические, исторические, рассказы-притчи и рассказы-зарисовки, дающие представление как о литературе, так и о жизни современной Румынии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Палиброда, вероятно, не отказался бы переночевать у них, он так обессилел, что ему было не до приличий (комната одна и кровать одна, и Антония в блузе с пышными рукавами, стянутыми красным крученым шнуром, сидит тут же, и слова от нее не добьешься). Но все же он встал и поблагодарил их, уже в дверях, говоря, что ему надо идти, он на дежурстве, есть еще дела, а Дашу громогласно изумился: «После акции в Лайне вы еще и на дежурство? Вам надо отдохнуть, такую опасную личность обезвредили, дали бы себе роздых!»
И в ту же секунду Тония-Антония протиснулась в дверь мимо Палиброды, зябко прижимая руки к груди, и пропала в темноте коридора.
Позже Дашу разыскал ее в пустом классе, она сидела без света, за партой, не плакала, но ей было сиротливо до слез. До сих пор ей удавалось вынести все: и четыре стены, и сырость, и петушиные крики подростков, идущих с обеда и на обед, и вечные отлучки мужа, но сейчас она увидела его суть так ясно, что чаша переполнилась. Она давно замечала, давно предчувствовала и вот — один жест, одна фраза — и ее как будто отсекло от него, и осталось чувство затерянности — как на равнине перед дождем.
Дашу подошел к ней тогда тихо, на носках, не хотел шуметь (или ему казалось, что так он не ушибется об острые углы?), сел у нее за спиной, прямо на крышку парты, где были вырезаны имена и глупые словечки. Наклонился над ее ухом, обдав парным дыханием, терпкостью деревенского вина. И вместе с винным духом на нее пахнуло волглой одеждой, затасканной по сырым домам, по пыльным, провонявшим бензином кабинам грузовиков. Потянуло камфарой и формалином, яблоками и айвой с чердаков, грязью и потом — его и чужими, — и она запрокинула голову, глядя в темноту, глубоко вдыхая, поддаваясь новому желанию, которое сквозило в каждом жесте нынешнего Дашу. Приоткрыла губы, ожидая, — она знала, твердо знала, что это будет, и ждала с брезгливостью (как ей казалось), потому что чувствовала себя способной на самый трезвый и беспощадный анализ. Она подчинилась, яснее других различая запах керосина, которым были протерты полы… Потом Дашу приподнял ее, обняв за плечи сильной, волосатой рукой и, погладив по щеке, сказал: «Ну, ну, все хорошо, Палиброда ушел».
Она не поняла, что именно — все, но ее разобрал смех, дурацкий смех от ощущения, что она только что была с другим, в первый раз, с кем-то, с кем они давно сговаривались и поэтому не нашли ничего лучше, чем этот класс, где уроки не шли (учеников было мало, а школа большая), как будто бы верное место и тем не менее — сама ненадежность. Рядом с Дашу, под охраной его сильной руки, ее душил смех, потому что всего несколько мгновений назад она была с другим, а этот так спокоен и уверен в себе, что считает нужным успокоить ее своим «все хорошо». Ей казалось, что она сделала что-то страшное, но сделав, осталась довольной, торжествующей. Утром все стало на свои места. Дашу, как обычно по выходным, сходил в столовую и принес чаю, масла и колбасы, прозрачный ломтик лимона плавал в кружке, пахнущей бромом. И весь день был с ней предупредителен и заботлив, так что только перед сном она набралась духа задать ему вопрос, который накануне вытолкнул ее из комнаты: «Ты не думаешь, что Палиброда с милицией вовсе и не искали этого парня, а вынуждены были его схватить только потому, что это ты за ним гнался?»
Тогда Дашу медленно застегнул портфель, в котором держал инструменты, и, хотя за весь день и словом об этом не обмолвился, сказал: «Я пошел. Дежурю сегодня в ночь. А что касается этой истории, то, по-моему, ясно, что благодаря мне Палиброда довел до конца дело, которое надо было сделать. Ты должна понимать, Тония, что, если кого-то поставили стоять с открытыми глазами, а ему в какой-то момент это надоест, и он захочет их закрыть, этот номер у него не пройдет. Потому что он поставлен пялить глаза, и каждый, кто идет мимо, любой прохожий, имеет право одернуть его, чтоб не моргал». Суровость тона он перебил мелким, тихим смехом: «Брось, все хорошо, я же тебе сказал. Палиброда вообще внимателен к людям, и в конце концов все к лучшему, даже плохое». Он смеялся одними губами, а глаза глядели на нее недоуменно, даже холодно. «Дура или прикидываешься?» Он вышел, не прикрыв за собой дверь, и скоро она услышала, как он зовет вахтера отпереть ему входную дверь. Он был раздражен, и это чувствовалось по голосу.
И вот теперь ей время от времени приходит в голову: а не оттого ли они живут в этом доме, что Дашу удалось найти к Палиброде такой подход, что тот уже не мог ему отказать? Они больше не говорили о происшествии в Лайне, и Палиброда ни разу не зашел к ним, как тогда, в интернат, хотя бы посмотреть, как они устроились. Она поразглядывала стены, за окном был уже почти день, виднелись насквозь пропыленные акации, она почувствовала ломоту в затылке от усталости, растянулась рядом с Дашу и через секунду уснула.
Конские копыта из сна отчетливо зацокали под окном, по новой щебеночной мостовой. Дашу крепко спал, приоткрыв рот, под глазами и на лбу у него выступил пот, а борода отросла еще заметнее. Она проснулась с пересохшими губами — в комнате было жарко, от труб и летом шло тепло, — тихо скользнула на балкон, запахивая на груди блузу. Мимо шествовал табун, вечерело, и окна их дома сверкали под прямыми ударами солнца. Так же сверкали шкуры лошадей, шедших, наверное, с купанья, с речки, которая текла меньше чем в километре за новостройкой, невидная взгляду. Они были почти все каурые, крестьянские кони со стертой шеей, с облезлым брюхом, кони малорослые и рослые в меру и среди них — несколько исполинов, смирных, с подрезанным хвостом, с привычно понурой головой тяглового скота. Иноцветным островком выделялись, судя по изяществу линий, кобылы, чалые, с белым длинным хвостом и расчесанной гривой. Изредка раздавалось фырканье или камушек вылетал из-под копыт — звуки, нарушающие лад, да, именно лад конского топота по свежевымощенной дороге. И она почти не удивилась, когда за табуном, опустив поводья, выехал вчерашний всадник, в шляпе, надвинутой на глаза, в перчатках на сей раз, и конь под ним, Орлофф, так, кажется, гарцевал, красуясь, но не забывая подталкивать мордой и боком тех, кто отбивался в сторону или отставал. Табун шел, сверкая, брызжа жаркими каплями в косых лучах солнца, шел в ореоле звуков и запахов, неся с собой лес и поле, шорох сухой земли, взбиваемой копытами, шум ветра в ушах. Она услышала свое имя — или ей только почудилось? Всадник, подбоченившись, вскинул вверх руку в перчатке, поза была так знакома ей по кино, что она не удержалась от смеха и, пытаясь совладать с собой, помахала в ответ. И тут она ясно услышала обращенные к ней слова: «Я буду обратно через пять дней, Антония! Тогда и увидимся, верно? Верно, Тония-Антония, скажи?» Она не отвечала, стягивая блузу на груди, радуясь, что грудь крепкая, и махала рукой, чтобы скрыть эту новую радость: она была юной, свежей, способной выдержать взгляды. Она была сильной, оттого и улыбалась. Неожиданно щебеночная мостовая кончилась, и все заволокло пылью, укрывшей под гигантским зонтом лошадей и блеск оловянной пряжки с нелепой шляпы, которую всадник носил так небрежно, хотя она защищала его от солнца, дождя и ветра.
* * *
За эти пять дней, которые истекли ни скоро, ни медленно, не случилось ничего особенного. Наутро Дашу уехал. «Опять Шоймуш, Лайна, опять сверлить и драть!» С этими словами он запихивал в портфель рубашку, бритву и потрепанный рецептурный справочник (интересно, зачем он ему?). Он был в прекрасном настроении, но всячески это скрывал и делал вид, что уходит через силу, что при одной мысли о предстоящей трудовой неделе ему хочется проклинать свое ремесло и свою долю. По твердому убеждению Антонии, он надевал кислую мину тут, чтобы там развернуться во всю ширь, чего не мог себе позволить дома, опуститься до «приступа», которые случались изредка и при ней и которые уже разъединили их, даже телесно. Она провожала его взглядом, сидя в кровати, колени к подбородку, испытывая почти ту же радость, что вчера на балконе, когда запахивалась в блузу, и, когда он захлопнул за собой дверь, улеглась снова, закрыла глаза и предоставила часам течь, не думая ни о чем, кроме своего одиночества, истинного и мнимого.