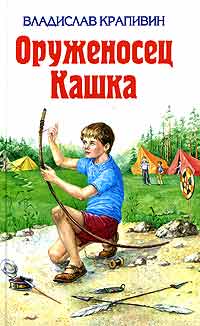Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою
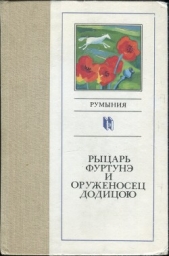
Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою читать книгу онлайн
В сборник «Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою» входят рассказы румынских писателей 70—80-х годов о прошлом и настоящем Румынии, психологические, сатирические, исторические, рассказы-притчи и рассказы-зарисовки, дающие представление как о литературе, так и о жизни современной Румынии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он молчал, похожий в своем наряде на двойника Джона Уэйна, забредшего в провинциальный городишко, а может, так оно и было.
«А кстати, где вы спите, если вы еще собираетесь сегодня спать?» — «Там, — он махнул рукой в темноту, — там есть стог, не очень сухой, но ничего, в компании сойдет: Орлофф, сверчки с мышами и я».
«И что, для вас всегда вот так припасено сено?» Он пожал плечами: «Нет сена, я его придумываю. Можно и так».
«Конечно, сено можно придумать, это не то что вещи поважнее, без которых не обойтись. Как вас зовут? Я могу узнать, как вас зовут?»
«Можешь, если хочешь. Тут самое главное — захотеть. Но ты не хочешь, ты просто так спросила, чтобы поскорее от меня отделаться. Я — хочу знать, как тебя зовут, я всегда хочу знать, как зовут красивых женщин, — тут он улыбнулся, — а раз хочу, то могу, а раз могу, то знаю. Тебя зовут Тония. Тония-Антония».
Женщина так и ахнула, она-то думала, что он просто болтает, а он угадал. Угадал или знал?
«Фокусы, значит, показываете, да? С дрессированной лошадью и с гаданьем? Самое время для развлечений, что и говорить. Шли бы лучше спать или напились по крайней мере. Тония-Антония, надо же, и совершенно неостроумно. Если бы это не со мной лично случилось, если бы я сама вас не видела, может, я и поверила бы, а так, знаете это что, это просто кривлянье, как в цирке, и больше ничего».
«А что — неправда? Ты не Антония?» — спокойно, готовый к любому ответу, спросил человек.
«Вот именно что правда, на то он и фокус».
Она повернулась и пошла к расплывчатому пятну света, на лязгающие звуки танго.
«Бедная Антония, какая же ты бедная, если так боишься обычной правды. Иди, воля твоя, но это ничего не изменит».
Женщина остановилась, заслонив собой пятно света. «Ты что, заходил в дом? Как ты мог узнать? — она сорвалась на крик. — Ты не просто кривляка, ты еще и тронутый. Уходи, убирайся сию же минуту отсюда. Бери свою скотину и проваливай». Она кричала, потому что на нее снова накатила тоска, потому что ее пробрал, наконец, страх. Она ничего не понимала и защищалась, отпихиваясь, отталкиваясь. Но — она кричала на него, а он стоял перед ней такой ясный, такой кроткий, поглаживая лошадиную шею, что она опустилась вниз, на траву, сжав виски ладонями, еле слышно приговаривая: «Нет, кажется, я слишком много выпила, я хватила лишнего, а это просто какой-то бродяга, бродяга, со странностями, мало ли».
Человек подошел, тоже сел, сдвинув колени. «Тут ничего такого нет. Орлофф же заходил в дом, он и услышал, как тебя зовут, все нормально, так ведь? Так зачем кричать, кричать-то зачем, скажи?»
И тут Тонии-Антонии удалось перехватить его взгляд. Глаза такой кротости и печали ей встречать не приходилось. И все же что-то похожее уже было, наверняка было, черная влага, блеск в глубине, взгляд пристальный и в то же время поглощенный собой. Чего-то тут она недопонимала, вне всякого сомнения, ни у кого из ее знакомых нет таких глаз, никто не мог бы смотреть так, и все же она знала эти глаза. На нее уже так смотрели. «Не понимаю, ничего не понимаю. Не могу, не могу больше, меня, кажется, совсем развезло. Надо прилечь. Прямо здесь, прилягу на пару минут, может, пройдет. Так сильно пахнет травой, клевером, наверно, от этого…»
Она оставила его на краю сада, а сама влетела, ворвалась в столовую. По дороге она не оглядывалась, думая, что темнота все равно защитит ее от чужих глаз. Стала в растерянности посреди каре из столов, почти все разошлись, кое-где — забытая шаль, стул, прислоненный к стене, чьи-то туфли на столе рядом с тортом. Перед ней дремал муж, уронив руки вдоль стула. Она пролезла под столом, между костями и осколками стекла, тронула его за плечо — он вскочил, как автомат. «Ты? Наконец-то, где это тебя черти носят, кофейку бы сейчас, покрепче и без сахару».
Когда они вышли за калитку, уже светало и было видно, как расходятся последние гости, те, что приютились во дворе, на охапках скошенной травы.
Она не сомневалась, что никогда больше не увидит человека в черной шляпе, покусившегося на ее устои: в ее мире все следовало своим чередом, а не шиворот-навыворот. Она нуждалась в сне, чтобы стереть в себе эту встречу, эту абсурдную лошадь с человеческим именем, ее хозяина, который чем дальше, тем больше превращался в плод воображения, может быть, воспаленного, по ночному-то времени.
Она услышала, как муж говорит: «Горечь какая-то во рту, пиво, что ли, было старое». И поспешила поддакнуть, как будто ее застали врасплох на чем-то запретном. «Старое, старое, наверное, неделю стояло, припасли заранее, народу-то вон сколько, запивать жаркое».
Он поежился, втянул голову в плечи, она решила, что он озяб, но когда попыталась ускорить шаг, он уперся. «Иди спокойно, воскресенье. Когда ты научишься хотя бы по воскресеньям ходить по-людски». Она не поняла, к чему это он, никогда между ними не было разговора, что она «ходит не по-людски», но возражать не стала, он толком не поспал, они были вместе десять лет, и он, невыспавшийся, всегда делался злым и искал ссоры.
Они жили в одной из первых многоэтажек города, вселились, как только дом был построен, не дожидаясь, пока завершат отделку «излишеств» под французский неоклассицизм. Дом образовывал каре, как столы в столовой, во внутреннем дворе посеяли травку, посадили несколько тополей — пирамидальных, тех, что быстро растут. Она скоро пожалела, что они так поспешили перебраться, квартира была неважная, вместо паркета — бурые крашеные доски, потолки низкие, батареи чудовищных размеров, так что и зимой приходилось держать окна открытыми, а по стенам шли еще какие-то трубы, свиристящие, с экзотическими голосами. Некоторые удалось замаскировать занавесочками, но все равно квартира больше смахивала на котельную в подвале, чем на человеческое жилище. Они поторопились, потому что Дашу, ее муж, привыкший к неисповедимым путям случая, явился, взбудораженный, в интернат при лицее, где они жили, и велел ей к утру собрать вещи. «Раз товарищ Палиброда сказал переезжать, надо переезжать. Главное — вселиться, потом попробуй нас выстави». И в самом деле, никто их не выставил и никто даже как будто не заметил, что они заняли квартиру, перепоясанную трубами и пахнущую дрянной известкой, которая на стенах сразу полопалась, превратив их в изрешеченные пулеметом декорации из фильмов про войну. Она так и не узнала, впрочем, ей это было и неинтересно, когда и как Дашу оформил ордер. Виделись они только вечерами, и не по ее вине. Дашу работал в одном диспансере, вероятно самом обычном, но поскольку всему полагалось быть специальным, то и этот назывался спецдиспансером, и потому Дашу выбирался домой только к ночи. Стоило им переехать, как он стал пропадать и ночами и приходил усталый, небритый, иной раз от него пахло вином, но она знала, что все можно объяснить, и поэтому ни о чем не спрашивала. Она не спрашивала, и от ее молчания он делался многословным, докладывал свой день по часам, как будто оправдывался. Его мир, как она понимала, был сложным, и она с готовностью допускала, что и люди, которые проводят в нем столько времени, должны ему соответствовать, хотя бы для того, чтобы выжить.
Дашу спал на спине, и у нее было ощущение, что она своими глазами видит, как проступают щетинки бороды на его осунувшихся щеках, под туго обтянутыми кожей скулами. Она оглядела комнату, цепляясь за каждую вещь, припоминая, когда она подарена или куплена, думая таким образом заполнить безвоздушное пространство вокруг себя, но получалось плохо. Почти все их добро нанес Дашу, ему нравилось приходить с полными руками и звонить в дверь, нажимая на кнопку лбом, трезвонить, не отрываясь, глядя на жену исподлобья, пока она отворяла. Эти минуты давали ему совершенно особенное наслаждение, и она догадывалась, что охапка свертков, перехваченных шпагатом поверх грубой оберточной бумаги, грязно-белой или голубой, как бы приобщает его к надежности и достатку, в которых, наверное, видели свое мужицкое счастье его отец и дед. Он думал, что ей нравится, когда он вот так приходит домой, он смотрел набычась, жал на кнопку, скалил зубы, как белые лопаты, и смеялся утробным смехом. Но на самом деле Антония, Тония-Антония, всякий раз подавляла в себе смутную неприязнь — отчасти страх, отчасти брезгливость — к нему, не такому, каким он бывал обычно, каким пыжился изо всех сил быть. Нет-нет да и вылезали наружу следы иного жизненного уклада, иных отношений с миром, когда вместо того чтобы смеяться, говорят «Хе-хе» тоном «Бросьте, мы-то знаем, где собака зарыта» именно тогда, когда не знают, где она зарыта, но надеются урвать что-то для себя. В эти минуты он напоминал ей хитрого мужика, который торгует на базаре и все боится прогадать. Он озирался по сторонам, как бы не упустить оказию, но какие могли быть оказии? Да его размах и не шел дальше свободного места в автобусе или лишнего билетика в «Популяр» на давнишний фильм. И она с трудом сдерживала раздражение — особенно когда являлись откровенные носители этого уклада, деревенские родичи Дашу, всегда на одной и той же серой кобыле, вяло отмахивающейся хвостом от мух. Эти родичи, обычно два-три мужика, дремали у подъезда прямо в каруце, растянувшись на сене, поджидая Дашу, изредка поглядывая на окна, видя ее и никогда даже не подавая знака — мол, вот они мы. В конце концов они заходили в дом, ни на секунду не выпуская из рук витой проволочный кнут, следуя по пятам за Дашу, как бы боясь упустить его из виду. Садились, кнут клали перед собой, деля стол пополам, на свою половину выставляли серый хлеб, брынзу, пироги, один с маком, другой с кофейным суррогатом, красное вино в бутылях, заткнутых кукурузными початками, ни до чего не дотрагивались, а вступали в долгие переговоры с Дашу, прося что-то устроить, замолвить словечко, обтяпать и обстряпать такие-то и такие-то дела, по ее мнению, пустячные, но для них, похоже, чрезвычайной важности. Она стояла прислонясь к оконному косяку, поглядывая на каруцу и на лошадь, которая жевала сено на асфальте и держалась невозмутимо, словно у себя в конюшне под соломенной крышей, и наконец родичи уходили, не забыв прихватить кнут. Это означало, что все, что на столе, по праву принадлежит Дашу, перегородка снята, и хотя подношения были, в сущности, грошовые, от всех этих припасов, отдающих землей и хозяйством, ее муж делался таким же, как с охапкой свертков на пороге — довольным, спокойным, уверенным.