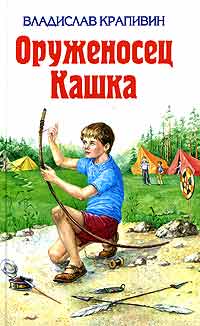Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою
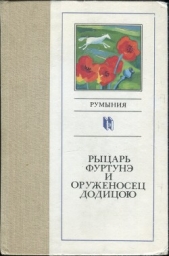
Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою читать книгу онлайн
В сборник «Рыцарь Фуртунэ и оруженосец Додицою» входят рассказы румынских писателей 70—80-х годов о прошлом и настоящем Румынии, психологические, сатирические, исторические, рассказы-притчи и рассказы-зарисовки, дающие представление как о литературе, так и о жизни современной Румынии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Антония не стала допытываться, в чем заключается это «другое», дунула на почерневшие камни. «Я думаю, она готова, как бы не сгорела». И принялась щепкой выкатывать картофелины из золы. Человек помогал ей, и его руки оказались гораздо ловчее, он спокойно хватал кончиками пальцев раскаленные угли и откладывал в сторону. Потом они взяли по картофелине, покатали их с ладони на ладонь для остуды и начали чистить. Антония заметила, что пальцы у человека длинные, а ногти на удивление красивые. «Видно, не очень-то он себя утруждает с этими лошадьми. Нет, какая-то неясность тут есть, что-то важное упущено. Заниматься лошадьми — дичь какая. Кому они сейчас нужны, лошади? И как ими можно заниматься?» Она чувствовала на себе испытующие взгляды, уж не читает ли он ее мысли? Он старательно сдирал мундир с картошек, складывал их в ряд на старую гимнастерку, белорозовые, с дымком. Заржал Орлофф. Что-то его мучило — тоска или жажда. «В тот день я понял, что, если не вернусь к лошадям, мне не будет покоя. А это последнее дело — непокой. Начинают донимать страхи: боишься, как бы чего не вышло, всего вокруг, самого себя боишься. Так, как боятся смерти. И это все такие вещи, которые скрыть невозможно. Я знал, откуда-то знал, что если вернусь к лошадям, то буду спокоен».
Антония посадила на кончики пальцев картофелины. «И теперь вы, значит, успокоились?» Она была убеждена, что он сочиняет, по крайней мере наполовину, да и почему бы не приврать при ней, при женщине, но ей хотелось посмотреть, как он будет выпутываться, выстраивать, быть может, какой-то особый логический ряд, где все им сказанное встало бы на свои места.
Человек промолчал, достал складной нож, короткими точными движениями рассек бело-розовые комки, посолил. «Что ж, вскрою, пожалуй, банку». И вскрыл, на самом деле. Протянул ей и банку и нож: «Объедение. Половина твоя». Антония стала вылавливать ножом кусочки мяса, плавающие в желе, и правда, вкусные, картошка была теплая и заменяла хлеб. Она проголодалась или внушила себе это и ела молча, сосредоточенно. Опомнилась, только когда перевалила за причитавшуюся ей половину, и тут же в смущении пододвинула все к нему. «Я вам почти не оставила». — «Ешь, ешь, раз голодная», — сказал человек и попытался вернуть ей банку. Но Антония возразила: «Да я не голодная, не знаю, что это на меня нашло».
Человек взялся за еду, он ел неторопливо, стараясь не обронить ни крошки; наблюдая за ним, Антония поверила, что он тверд в своем решении жить так, как живет, загляделась на мелкие морщинки вокруг его рта, вокруг глаз, на красноватую — отсвет бороды? — кожу, на глубокий разрез ноздрей, о, вот он на кого похож, те же глаза, огромные, черные, тот же добрый, тяжеловатый взгляд…
«Знаю, теперь я знаю, на кого вы похожи. Глазами».
Человек доел, выскоблил все желе со стенок банки, обтер ладонь о траву и швырнул пустую жестянку в кусты. «Та-ак, поели — и слава богу, и запьем водой». Это означало, что она может оставить при себе свои открытия, ему ли не знать, на кого он похож. «Ну, как тебе у нас, нравится? — под множественным числом подразумевались он и Орлофф. Он подобрал сосновую ветку, потер ее в ладонях. — Я не думал, что ты придешь вот так, одна, все-таки место глухое».
Антонии было хорошо, и поэтому она сказала: «Если мужчина говорит тебе ни с того ни с сего, что ты красивая, тебе нечего его бояться».
«Верно. Красота — это как добрая мысль. Или нет, лучше будет сказать, что красота — как новое утро, если сможешь к ней причаститься, от нее все и пойдет. Впрочем, я могу рассказать, как это случилось».
Тония поняла, что речь пойдет о том дне, который повернул его к лошадям. Уютно пахло дымом, головешками, трава вокруг костра пожухла.
«Ничего в моей жизни не предвещало крутого поворота, да и вообще хоть каких-то событий. Я работал, не знаю, самое ли это подходящее слово, в одном архиве. Как должно выглядеть подобное заведение, я до сих пор понятия не имею. Нашу контору устроили когда-то на скорую руку в каморке под лестницей, и так она там и застряла на годы. Весь день я сидел среди стеллажей с разными папками и нумеровал накладные, потому что архив принадлежал одной торговой организации. У меня была специальная машинка, такой здоровенный металлический штемпель с набором цифр. Жмешь на клавишу — цифры перескакивают. Весело. Восемь часов кряду я сидел нос к носу со стариком, который учил меня, как находить интерес в том, что мы там делали. Я нажимал на клавишу, кивал и слушал вполуха. Старик считал дни до пенсии и постоянно держал меня в курсе своих подсчетов, он напоминал солдата, который точно знает, сколько дней осталось до конца войны, и рад каждому проходящему дню, потому что уцелел. Трогательно, правда?»
Антония кивнула, может быть, чересчур поспешно.
«А по мне — ничего трогательного. Старик посвящал меня во всякие тонкости, как стать важной шишкой прямо на месте, в нашей норе. Например, задерживать регистрацию на день-другой. Доставщики, те, что курсируют взад-вперед с товаром, без нашей регистрации шага не могут ступить. Ты тянешь, регистрируешь пока других, глядишь — тебе уже суют что-то в дверь, сверток или бутылку. Мой старик действовал с умом, не перебирал, иной раз «дай вам бог здоровья» было для него слаще любых подношений. Я не отказывался, когда он и меня угощал, но сам нумеровал, как и прежде, не раздумывая, кому я это делаю и от кого получаю на лапу. За два дня до пенсии старик не вышел на работу, в его отсутствие я взялся наводить порядок в каморке и, роясь в бумагах, наткнулся на папку с просроченными накладными. Может быть, они даже когда-то прошли через мои руки, а копии потом завалялись. Я пораздумывал, не отнести ли папку куда следует, но потом сказал себе, что это дело старика, пусть он и относит. На другой день он стал, по обычаю, рассусоливать мне про свои грядки с морковкой и петрушкой, про голубятню, которую он построит, когда выйдет на пенсию, а я помалкивал и представлял, какие у него будут глаза, когда я ему скажу про те накладные. Весь день я не мешал ему болтать и только под конец, когда он настроился было пойти по новому кругу, я его оборвал: «Ну, поболтали и будет, разберитесь лучше вот с этой папкой», — и кивнул на нее. Старик побелел. «30876—30975», — только и сказал, встал, выудил папку из бумаг, сунул под мышку и уже в дверях — я-то был уверен, что он идет куда надо, он у нас за все отвечал — слышу, как он мне говорит: «Знаешь, я обсчитался, на самом деле, пенсия у меня завтрева». Выходит, он весь день накануне пересчитывал минуты, пока я за него наводил порядок в конторе.
Я пошел себе спокойно домой, а вечером является наш курьер, пьянчуга, и говорит: «Айда, старик помер». У меня в глазах почернело, я схватил со стола графин с водой и запустил в него и слышу, как чей-то чужой голос вопит: «А что ты ко мне-то пришел, я, что ли, его убил?» И страшнее всего — что это был мой голос, только хриплый от ярости; я скорчился на кровати, даже плакать не мог, пролежал так до утра и все думал, в чем я ошибся, потому что мой промах, конечно, был причиной всего. На другой день мне рассказали, что его нашли соседи, он умер скоропостижно, но болезнь, скрытая, точила его давно. Он снимал комнату в дешевом квартале, в кирпичном домике с крохотным палисадником, тут я и узнал, что грядки с морковью и петрушкой существовали на самом деле, только принадлежали не ему, а домовладелице. В комнате все было в порядке, старик умер в своей постели, рядом стоял таз с кучкой пепла, залитой водой, так что никаких следов бумаг не осталось. Я вернулся домой и тотчас уснул. Я чувствовал, что черта подведена. Проснулся я другим человеком, в ладу с собой; было утро, полное солнца, теплое, пахло свежим сеном. И я уже знал, что переменю жизнь. И вот мы здесь, я и Орлофф. Антония пытливо взглянула на него: «А скажите, ну, положим, вы знали, что перемените жизнь, но почему именно так, а не иначе?»
«Ты смотришь в корень. Действительно, тут есть подоплека, но она относится уже к моей новой, с позволения сказать, жизни».