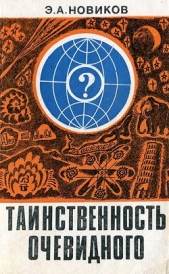Золотые кресты

Золотые кресты читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И помаленьку, пожалуй, все утрясалось. Правда, что красные дни и вольная волюшка отполыхали так скоро, как быстролетно сгорает летний полуденный сон на снопах после тяжелой работы. Напротив того, сильная скрепа повсюду пошла и неудобства, точно босыми ногами идешь по жнивью… Главное было — война, когда воевать, по правде сказать, уже давно надоело, а второе был город, который порою уж чересчур наседал, только и знаешь: «подай, да подай!» — а взамен того ничего, ни гвоздя, ни веревки, не говоря уже про плужок или ремень… Тоже и сами с барским добром обошлись нерасчетливо… В неряшестве и неубранстве, как занемогшая, у нерадивых детей забытая мать, без призору лежала земля. И оттого-то, в порядке вещей, первая засуха знойной своею косой подкосила поля; горячим ковшом сухостойное лето зачерпнуло всю влагу сразу до дна; как на мелкое блюдечко насыпан был слой плохо разделанной, богатой земли.
Кто был посильней, кое-как еще устояли; хозяйства поплоше, как и рожь на полях, были под корень подкошены. Их было немало, в числе их, конечно, и Болдыревы. Маланья давно была не работница, она совсем закрутилась, а как нечего стало есть, па зорьке однажды поднялась и ушла, захватив с собой и приданое, болтали — в Москву. Один комиссар, черноусый, на недолгий срок наезжавший в село Подъяремное, как будто действительно сильно Маланью манил. Был он мужчина сурьезный, широкоплечий, девке под стать, вольный ей хлеб обещал и легкую жизнь. Надо так думать, Маланья польстилась. Остались в избе одни старики да детвора коротать свои черные дни.
Дни, хоть и черные, еще можно б терпеть, но когда наступали глухие потемки и на селе тишина, и тишина по всем деревням на десятки верст и на сотни верст, то и крепкому человеку становилось подчас не по себе, а уж о старых да малых и говорить не приходится…
Осень эта, двадцатого года, вдвойне была тяжела, кончали с поляками, с Врангелем, срочно власти нажали на хлеб и, невзирая на недород, взяли разверстку сурово. Многие резали скот, продавали, и хлеб покупали на стороне, только бы к сроку выгнать положенное. Тряхнула деревня и жадно копившимся за все эти годы бумажным добром.
Как воды, пласт за пластом, наносят породы и немой их язык воскрешает перед геологом тайную жизнь и историю давно отошедших веков, так и в обитых железом потайных сундучках, за слоем слои, много раз пересчитанные, по пачкам и по сортам перевязанные тугой бечевой, лежали цветные бумажки. И с каждой из них связаны труд и беспокойства, и хлопоты, и обман, и удачи, и страх, и людская бессмертная жадность. Сколько, казалось бы, тяжких, и весьма притом поучительных, было разочарований, связанных с этим мнимым могуществом, когда каждый новый, все более пухлый, свеженький пласт так обесценивал ранние отложения, что их скрытая жизнь истлевала подобно осенней листве, и каждый раз все же, снова и снова, все с тою же скрытною радостью, с жадною дрожью, корявые руки увязывали новую пачку. Теперь их пришлось распаковывать, и нелегко это было. Сначала снимали советки, потом, с раздумьем, керенки, но жальче всего было коснуться засаленных, когда-то таких полноценных романовок. У многих и многих еще таилась в душе какая-то магическая их притягательность.
Известный насмешник Иван Никанорыч любил донимать деревенских горе — миллионеров. И говорил на сей раз притворно-слащаво:
— Вам это способней, чем бабам: те сливочки сверху сымают, иначе никак невозможно, а уж потом идет молочко, у вас же, можно сказать, все перевернуто, снятое вы молочко на расход, а сливочки: те, что внизу — про запас, про себя… Да только, скажу вам, напрасно, сливки-то ваши прокисли…
Мужики не особенно ласково слушали шуточки бородача. Был он раньше приказчик в лесу, и теперь уцелел в прежней конторе. Можно сказать, за последнее время даже опять оперился, кончилась воля на лес, и без бумажки за номером к нему не приступайся, а чтобы с бумажками не вышло еще волокиты, присовокупляли ему и кредитки. Да и вообще человек промышлял разными способами, умел, когда нужно, и спрятать, умел, когда можно, с кем нужно — и поделиться…
Вовсе другой разговор был с Алешей, и вовсе другой человек был Алеша. Уединенная история его — целая особая повесть, и ее развертывать здесь мы не станем. Сколько ему было доподлинно лет, неизвестно, забыли считать, а все звали Алешей, как маленького. Давно он уже больше не старился, родные его все перемерли, хата сгорела лет двадцать назад, и с той поры он, как устроил себе теплый шалаш, так и остался в лесу. Там на поляне развел огород и поставил с десяток колодок, это было его пропитание, пчела к нему была не скупа. Алеша людей не дичился, охотно беседовал, но сам из своего стариковского рая редко когда выходил. Порою, случалось, и вовсе его забывали, особливо зимой, но по весне, вместе с ручьями, как побегут ребятишки оврагами в лес, смотрят — Алеша по-прежнему там, снова оттаял. Детей он любил и любил называть милыми пташками. «Милые пташки мои опять прилетели… Без вас и весна не полна». Леньку он привечал между других, жалел его дохлую ручку. Любили Алешу и ребятишки, как им доставал из шалаша душистые, крепкие соты, и в веселом пиршестве этом до странности мало было различия между детьми и стариком.
Но иногда, как бывало зайдут посидеть мужики, подымались меж них разговоры и о деревенских делах, и тут находил Алеша слова. Он не стыдил, не укорял, не восторгался, но в ровном его, похожем на шепот листвы, то замиравшем, то подымавшемся голосе, было, вернее всего — предупреждение.
— Божья земля хорошо, только не дьяволова. Други мои, надо себя соблюдать. Не соблюдешь, и земля не спасет. Под злою стопой змеей обернется, ужалит. А времена наши есть человеку как испытание, кому испытание на бедность, а кому на довольство.
И не сказать, чтобы был Алеша настойчив, не убеждал, а вроде как бы хотел одного — остановки, чтоб допускал человек до души минутки особые, раздумья и тишины, И чтоб сам обо всем себя допросил. А там уже делай, как знаешь, воля твоя. А только что не блуждай и не крутись, как речною водою несомая щепка. Главное, надо узнать, кто же ты именно есть и какое на свете души твоей дело.
Кому западало на сердце, но только что, разумеется, редко, на эти дела положен свой срок. А он не насиловал.
— Душа как березка, насильно ее в большую березу не вырастишь, сильно потянешь — корешки оборвешь, всякое древо растет ровно, в прапорцию, но только что древо счастливо, соблазнов ему не надо. А потому, друга мои, надобно слушать себя. Так слушать, как зорьку вечернюю слушаешь.
И этак всегда. В мужицких делах, в коренных, был как младенец, и вникать в происшествия разные будто бы и не умел, а так, обоймет их единым словечком и опять про душевное. Вспоминали, однакож, как он сказал, еще только как началось, а о голодных годах даже и в ум не всходило.
— Будет, друзья мои, так, за жаркою летней порой осень приходит, и вянет на деревах и опадает осенний лист. И будет, народ начнет опадать, как никлый тот лист. А тихо он опадает, как приходит пора.
Иван Никанорыч, чернобородый, тот и себе то же предсказывал, и точно о том, но только какими другими словами!
— Погодите, стервята! Царь к вам воротится. Он вас с вашей землею сожрет! Царь-Голод — он самого Стеньку Разина выроет из-под земли.
И твердо нельзя было понять, что говорит: то ли он сам ожидает царя, то ли творит над мужиками издевку. «Сливки прокисли» — издевка, «царь к вам воротится» — издевка двойная. Тоже лесной, но какой неприятный был человек Иван Никанорыч! Если Алеша на пасеке тихой листвою шумел, так этот глухими корнями ворочал.
III
Осень была тяжела, зима еще тяжелей, но и весна пришла жестокая, нерадостная.
По осени, вспомнить теперь, какое еще, все же, было раздольеВ погожие дни бабьего лета сколько ребятам веселых находок: там на межах замотавшийся между полынью щупленький колос, там лебеда, конский щавель, у лопуха сладковатые корни, а по оврагам орехи и желуди, а главное яблоки — какие богатства! Что до зимы, то белые дни коротки, ночи же долги, какая-то оторопь и полудрема, подобные спячке медведя в берлоге, давали возможность хоть кое-как, а перебыть. И сквозь ту полудрему звоном в ушах манила весна. А как затеплело, вышли на воздух, от воздуха и закачались. Обнажилась земля, голодная к севу, насытить утробу ее, разверстую, ждущую… чем? Разве такою же черной тоской. И верно, случилось: стал народ опадать, как опадает с дерев, по слову Алеши, листва, и обернулась весна для многих и многих никлою осенью. Какая прошла по земле болесть и хворь, пожалуй, и не узнать, проходила она, для тех, кто помирал, безымянная. Но только что верно одно: не один мужик на деревне лег под вечер на лавку, чтобы больше не встать, затем, что тоска сердце его приклонила: непереносен был вид обнаженной голодной земли.