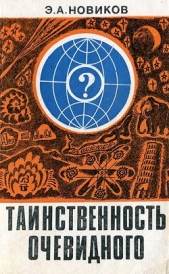Золотые кресты

Золотые кресты читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«И Вася стрелял, и он… убивал», — наконец и словами назвала сама себе Таня то самое, что так глубоко томило в груди, и у самого сердца пробежал холодок. Как к последнему прибежищу жизни, быстро она перешла через улицу и почти побежала, не упуская из глаз желтый платок.
Груня также ее увидала и побежала навстречу, в припрыжку, смешно и неловко махая руками.
— Барышня, барышня! А вам два письма — еще издали громко кричала она. — Цельную неделю в швейцарской лежали, только сейчас и отдал.
Таня бегло взглянула конверты: от Елены и из дому.
— Спасибо, — сказала она. — Пойдем-ка домой. Что у нас там?
— Барин проснулись, кушают кофий. А я… я сейчас, только в лавочку сбегаю.
— Приходи же скорей, — сказала ей Таня, и внятно, в ту же минуту, ощутила в себе беспокойство за Груню; смутно при этом подумала: «Вот также и Никодим… почему я тогда же… знала вперед?»
— Сею минуту приду… — все еще зараженная детским весельем, бойко и беззаботно отрапортовала ей девочка.
Быстро она тряхнула косичками и ускакала; Таня еще поглядела ей вслед и одно за другим распечатала оба письма. Начала было из дому, потом от сестры, потом опять взяла первое. Шла и останавливалась.
В первом писали, что там неспокойно, звали скорей. Лена… как странно… да, все-таки так; молчала шесть месяцев и вот: «Я поняла, есть только два стана, и я себе — выбрала»… Как? И она… раньше почти ненавидела — с ними теперь, вот с этими? А почему бы и нет? Обе сестры — что ж, и мы с нею, как через пропасть, в разных мы лагерях? Нет, отчего? Я ни в каком… — быстро шептала и комкала Таня письмо.
И тотчас взяла опять из дому. После длинных и ровных привычных строк матери (отец никогда не писал) взгляд Танин упал на приписку Ирины; она жила теперь дома, в институте разгром. Приписка, должно быть, спустя несколько дней, письмо залежалось. Детским еще, ломаным почерком Ирина писала: «А у нас беда, дом наш сожгли, все разнесли, живем теперь в старом амбаре, Левушке холодно. А особенно изо всех отличился Грунин отец; всю скотину побили и растащили. Где она, Груня? Скажи ей, если увидишь, что я не сержусь. Холод у нас. Приезжай. Ничего у нас нет».
Таня была уже у ворот, когда позади раздался оглушительный взрыв. Она приостановилась, мысли ее сразу разбились и каждая осколками ранила сердце. Дом их сожжен… Лена… И откуда б он взял? Бедная Груня, отец ее взял поросенка у нас… «Но я не сержусь». Что ж это, взрыв? Бегут и кричат. Надо идти. Как все смешалось в одно… невероятно. И где же тут целое? Где ж это Груня?
Таня только что скинула шубку, на сердце стояла, не уходя, ощутимая боль. Вася в дверях, освеженный и вымытый, глаза его ясны; глядел он и улыбался, Таня видела все как сквозь пелену. Людмила Петровна, счастливая, в столовой наискосок перетирала посуду.
— Танечка, что-то шумят, — сказала она. Действительно, несколько ног топтались у лестницы.
— Ты дверь не закрыла?
Но не успела Таня ответить, как незапертую дверь открыли снаружи.
— Да здесь же, я вам говорю, я эту девочку знаю, — послышался чей-то мужской простуженный голос.
Таня увидев, взмахнула руками, земля поплыла из-под ног. Она точно знала всегда, видение это было всегда: маленький принц, легонький, очень худой, легко колыхался в чужих, заботливых чьих-то руках, он был уже мертв; угловато поднято было плечо, косички торчали у щек.
— Игра до добра не доводит, — услышала Таня еще все тот же простуженный голос. — Видишь, девчонка ногой ее, проклятую… играючи.
Х Вечером в маленьком флигеле горели у изголовья покойной желтые свечи. Таня, как некогда «пташек», золотоволосым первосвященником безмолвно сопровождала на дальнем пути отошедшую свою любимицу Груню. Робкий, взъерошенный, дико худой, на кухне пил чай Рыжий Никита. Он ничего не говорил, плохо его слушались руки, пил чай, как если бы делал тяжелую непомерную работу, но от нее отказаться было нельзя.
Людмила Петровна с тревогой глядела на Таню. После того, как упала, долго не приходила в себя, а когда и очнулась, не плакала и не томилась, странно была скупа на слова, сама захотела Груню обмыть и убрать; с Никитою встретилась ровно, несколько строго, как старшая. Тот два уже дня ждал, пока стихнет стрельба, у московской кумы, у маманьки.
С Васею также она не была разговорчива, только по временам ловил он ее на себе пристальный взгляд; ничего за весь день Таня не ела.
После вечернего чая она настояла, чтобы Людмила Петровна легла. Вася не спал, сидел у себя. Поздно уже, после двенадцати. Таня его позвала.
Она взяла его за руку и подвела к покойнице Груне. Девочка точно спала. Тепло золотились при свете свечей мягко промытые Танею волосы, теплела щека. Таня поправила белую, у худеньких плеч простыню.
— Вася, — сказала она с какой-то простою торжественностью — эта невинная жертва… Послушай, если ты хочешь, чтобы я стала твоею… чтобы любила тебя…
Волнение помешало ей кончить. Вася крепко, вперед соглашаясь, взволнованный, сжал ее руку; в тишине по-необычному странной столовой, похожей на церковь, мелко потрескивал воск да из кухни было обоим явственно слышно, как Грунин отец беспомощно плакал во сне.
Таня ответила на пожатие Васи коротким пожатием и коротко также, быстро договорила:
— Так никогда… никогда! Слышишь, нельзя убивать.
1917–1919 гг.
ЖЕРТВА
Вместо эпиграфа
Давно о родине уста Не открывал я — колос в нивах Ее полей, в ее разливах Расплеск волны, листок куста.
Но вместе с ней в тревожной дрожи, В предсмертном пульсе бился я:
Тебе ль я, мати, судия — Тебе, кто всех земных дороже?
Разрыта заступом земля, Но и в преддверии могилы, Но и за гробом будут милы Родимые твои поля.
В душе земной запечатлен на, В душе бессмертной оживи, И если отойдешь в крови, В любви моей почий нетленна.
I
Путешествие в Москву задумал Никандр, а Ленька за ним увязался. Так было всегда: старший выдумывал, а Ленька без брата ни шагу, и от него ни на шаг.
Никандру пошел с Рождества тринадцатый год, но упрямая голова его торчала колом, как у матерого заправского мужика, жесткие волосы, густо пропитанные потом и пылью, плотно бывали прижаты зимнею ватною шапкой, с которою он не расставался и летом, а на шее торчали грубо отогнутой рыжею щеткой; над ухом колянились веером. Когда порою Никандр начинал с упорною тупостью скрести у себя на затылке, грубый ноготь его с трудом продирался сквозь войлок волос, как если бы пальцем надобно было проникнуть через голенище солдатского толстого валенка; проходило не менее четверти часа, прежде чем он достигал своей цели, а предприятие считал завершенным, как острая боль, наконец-таки, заглушала мучительный зуд. С чувством глухого удовлетворения вытаскивал он тогда занемевший свой палец и внимательно, долго разглядывал, как густая свежая кровь медлительными алыми жилками продергивала грязную отопревшую кайму вокруг ногтя; возможно, что зрелище это казалось ему даже красивым. Кровь вообще привлекала его.
Когда на селе, бывало, резали скот или перед Рождеством палили свиней, Никандр бывал непременным и самым внимательным зрителем: первым являлся и из последних долго еще не уходил, следя, как за людьми следом являлись собаки и с жадностью слизывали кровавые тяжелые сгустки с холодного снега. Порою при этом невнятное и темное наслаждение заставляло глаза его суживаться, между тем, как острые скулы косо ползли к мочкам корявых ушей. Было похоже, как если б у мерина, застоявшегося в каляном своем хомуте, размотали супонь, и оглобли, освобожденные, — концами тронулись врозь, раздвигая клешни хомута, Никандровы губы — в улыбку…
Ленька на брата не был похож. Волосенки его, цвета сосновой доски, свежеотструганной, мягко пушились над головой; бледно-лазоревые безвыразительно ясны были глаза, тонкие ноги сквозили под рубашонкой — бог его знает, кого этот мальчонка напоминал: не то одуванчик на несколько согнутом стебле, готовый развеяться по ветру, то ли барашка, приуготованного пасть под равнодушной рукой. Ручонка одна у него, правая, плохо владела и медленно сохнула: неловко мать на полатях его приспала, как был еще Ленька младенцем. Вывих не вправили, и Ленька не мог и теперь дохлой рукою своей, как брат ее называл, даже перекреститься, чтобы от боли не сморщиться. Шла в эту пору Леньке седьмая весна.