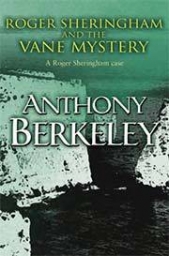Тайна корабля
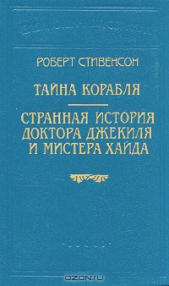
Тайна корабля читать книгу онлайн
В романе «Тайна корабля» описывается полная приключений жизнь Додда Лоудона, которого судьба привела на борт потерпевшего крушение брига «Летучее облако», якобы нагруженного контрабандным опиумом. Лоудон не находит на судне ни опиума, ни сокровищ, но зато раскрывает жуткую тайну гибели корабля и его экипажа.
В повести «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» рассказывается об удивительном открытии доктора Джекиля, которое позволяет герою вести двойную жизнь: преступника и негодяя в обличье Эдуарда Хайда и высоконравственного ученого-в собственном обличье.
Другой перевод названия: «Потерпевшие кораблекрушение».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Послушайте, — сказал он, вставая, — вы пожалеете, что приехали. Мы не можем остановить работу, если хотим отплыть завтра. Судно, снаряжающееся в плавание, не место для публики. Вы будете только мешать людям.
Я собирался ответить грубыми словами, но Джим, знакомый с натурой моряков, как вообще он был знаком со всем, что имело отношение к делам, поспешил умаслить капитана.
— Капитан, — сказал он, — я знаю, что мы здесь мешаем, и что у вас хлопот по горло. Но мне хотелось только, чтобы вы выпили с нами стаканчик вина, Перье-Жуэ, от Лонггерста, по случаю моей свадьбы и отъезда Лоудона — мистера Додда.
— Ну, ладно, — сказал Нэрс, — полчаса куда ни шло. Смена, эй! — прибавил он, обращаясь к матросам. — Ступайте на полчаса проветриться, потом будете работать живее. Джонсон, не раздобудете ли стул для леди!
Тон его был любезнее слов; но когда Мэми направила на него нежный огонь своих глаз и сообщила ему, что он первый морской капитан, с которым она встречается, «исключая, конечно, пароходных капитанов», — пояснила она, — выразила восхищение его мужеством, и, может быть (я предполагаю, что уловки дам те же, что и мужчин), дала ему почувствовать себя молодцом, наш медведь начал смягчаться и уже в виде оправдания, хотя все еще сердитым тоном, распространился о своих затруднениях.
— Возни изрядно, — сказал он. — Половина припасов оказалась негодной; я сверну за это шею Джону Смиту. Потом явились две газетные бестии и добивались от меня справок, пока я не пригрозил им первым, что попалось под руку; затем какой-то клоп миссионерского вида, желающий плыть в Райати или куда-то в другое место. Я сказал ему, что вышвырну его на пристань носком сапога, и он ушел с проклятиями. Только шхуну опакостил своим присутствием.
Пока Нэрс говорил это своим странным, отрывистым, сердитым тоном, Джим рассматривал его со спокойным любопытством, как нечто знакомое и в то же время курьезное.
— На пару слов, дружище, — сказал он, внезапно обращаясь ко мне; затем вывел меня на палубу и прибавил:
— Этот человек будет нестись на всех парусах, пока у вас волосы не поседеют, но никогда не вмешивайтесь, не говорите ни слова. Я знаю его нрав: он скорее умрет, чем послушается совета; и если скажете ему что-нибудь, он сделает как раз наоборот. Я часто стесняюсь давать советы, Лоудон, и когда делаю это, то, значит, ничего другого не остается.
Маленькое заседание в каюте, начавшееся так неудачно, закончилось под смягчающим влиянием вина и женщины при наилучшем настроении и довольно весело. Мэми, в плюшевой шляпке Генсборо и шелковом платье темно-красного цвета, сидела как королева среди своих грубых собеседников. Страшный беспорядок каюты оттенял ее лучезарное изящество: просмоленный Джонсон пал перед ее волшебной красотой; она сияла в этом жалком помещении, как звезда; даже я, обыкновенно не принадлежавший к числу ее поклонников, под конец воспламенился, и сам капитан, хотя и не был в ухаживательном настроении, предложил мне увековечить эту сцену моим карандашом. Это было последним актом вечера. Как я ни торопился, но полчаса растянулись на три, прежде чем я закончил: Мэми была оттушевана вполне, остальные набросаны эскизно, себя самого художник изобразил с затылка и очень похоже. Но всего больше я постарался над Мэми, и это был мой главный успех.
— О! — воскликнула она. — Неужели я действительно похожа на это? Неудивительно, что Джим… — Она остановилась и прибавила: — Это так же красиво, как он добр! — эпиграмма, которая была оценена и повторялась, когда мы распростились и следили за удалявшейся парочкой.
Так наше прощание было заглушено смехом, и мы расстались прежде, чем я успел сообразить, в чем дело. Фигуры исчезли вдали, шаги стихли на безмолвной набережной; на корабле матросы вернулись к работе, капитан к своей одинокой сигаре; и я наконец был один и свободен после долгого дня, полного хлопот и волнений.
У меня было тяжело на душе, быть может, под влиянием усталости. Я смотрел то на пасмурное небо, то на колеблющееся отражение ламп в воде, как человек, утративший всякую надежду и рассчитывающий найти убежище только в могиле. И вдруг мне представился «Город Пекин», плывущий со скоростью тринадцати узлов в Гонолулу, с ненавистным Трентом, быть может, и с таинственным Годдедаалем; и при этой мысли кровь взволновалась во мне. Казалось, о погоне и думать нечего; казалось, у нас нет никаких шансов, раз мы прикованы к месту и теряем драгоценное время на укладку жестянок с бобами. «Пусть себе явятся первыми! — думал я. — Пусть себе! Мы не заставим долго ждать себя!» И с этого момента я стал считать себя человеком опытным, хладнокровным, и только что не лелеял мысль о кровопролитии.
Но вот прекратилась работа в каюте, так что я мог улечься в постель; не скоро после этого сон посетил меня, а затем, спустя минуту (так, по крайней мере, мне показалось), я был приведен в сознание криками матросов и скрипом снастей.
Шхуна отчалила прежде, чем я вышел на палубу. В туманном полумраке брезжущего утра я видел тащивший нас буксир с рдеющими огнями и клубящимся дымом и слышал, как он бьет взбудораженные воды бухты. Передо мною на группе холмов громоздился освещенный город, казавшийся разбухшим в сыром тумане. Странно было видеть это ненужное освещение, когда звезды уже почти угасли и утренний свет был достаточно силен, чтобы показать мне и дать узнать одинокую фигуру, стоявшую на пристани.
Или не глаза, а сердце помогло мне узнать, чья тень виднеется в тумане среди фонарей набережной? Не знаю! Во всяком случае, это был Джим; Джим, явившийся взглянуть на меня в последний раз, и мы успели только обменяться прощальными и безмолвными приветствиями. Это было наше второе расставание, после которого мы поменялись ролями. Теперь я должен был разыгрывать аргонавта, обделывать дела, составлять планы и приводить их в исполнение, если бы понадобилось, ценою жизни; а ему предстояло сидеть дома, посматривать в календарь и ждать. Я знал, кроме того, другую вещь, которая меня радовала. Я знал, что моему другу удалось воспитать меня; что романтизм дела, если наша фантастическая покупка заслуживала этого названия, затронул наконец мою дилетантскую натуру; и когда мы плыли мимо туманного Гамалпайса и через бурливший проход из бухты, кровь янки пела и ликовала в моих жилах.
Выйдя из гавани, мы поймали, точно в угоду моим желаниям, свежий ветер с северо-востока. Мы не теряли времени. Солнце еще не взошло, когда буксир убрал канат, отсалютовал нам тройным свистом и повернул домой, к берегу, который начинал озаряться первыми лучами дня. Никакого другого судна не было видно, когда «Нора Крейна» под всеми парусами начала свое долгое и одинокое плавание к разбившемуся судну.
ГЛАВА XII
«Нора Крейна»
Я люблю вспоминать радостную монотонность тихоокеанского плавания, когда встречные ветры не мешают ему и судно изо дня в день идет полным ходом. Горный пейзаж гонимых пассатами облаков, наблюдаемый (а в моем случае рисуемый) при всякой перемене освещения, — облаков, заслоняющих звезды, тающих при блеске луны, загораживающих пурпурную полосу зари, оседающих безобразной отмелью в сумерках рассвета или поднимающих в полдень свои снежные вершины между голубой кровлей неба и голубым полом моря; суетливый и рассудительный мирок шхуны с необычными сценами, дельфин, выскакивающий из-под бушприта, священная война акулам; рифление парусов перед шквалом, с повисшими над палубою матросами; сам шквал, замирание сердца, разверзшиеся хляби небесные; и облегчение, новая радость жизни, когда все прошло, солнце снова сияет и наш побежденный враг исчезает в виде темного пятнышка на подветренной стороне. Я люблю вспоминать и желал бы уметь воспроизвести эту жизнь, незабываемую, незапоминаемую. Память, которая обнаруживает такую мудрую неохоту записывать страдания, ненадежный летописец и в отношении продолжительных удовольствий: долго длящееся благополучие ускользает (точно вследствие своей массы) от наших мелочных методов запоминания. Часть нашей жизни заволакивается розовой непроницаемой дымкой.