Мир сновидений
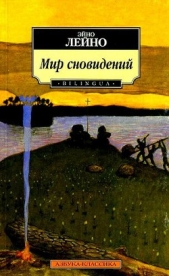
Мир сновидений читать книгу онлайн
В истории финской литературы XX века за Эйно Лейно (Эйно Печальным) прочно закрепилась слава первого поэта. Однако творчество Лейно вышло за пределы одной страны, перестав быть только национальным достоянием. Литературное наследие «великого художника слова», как называл Лейно Максим Горький, в значительной мере обогатило европейскую духовную культуру. И хотя со дня рождения Эйно Лейно минуло почти 130 лет, лучшие его стихотворения по-прежнему живут, и финский язык звучит в них прекрасной мелодией. Настоящее издание впервые знакомит читателей с творчеством финского писателя в столь полном объеме, в книгу включены как его поэтические, так и прозаические произведения. Поэтические переводы даны в сопровождении текстов на языке оригинала. Все переводы выполнены Э. Иоффе, большинство из них публикуются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Как важнейшее литературное событие того года запомнилась лишь одна встреча с покойным отцом, который, из последних сил замеряя тракты своей губернии, случайно заехал в Оулу.
Я жил, разумеется, как и он, у старой тетушки Ольги Кирениус. Однажды, когда мы были наедине, он заговорил о моих первых литературных опытах.
Я залился краской, мне хотелось провалиться сквозь землю, и меня бросало то в жар, то в холод.
Вероятно, он заметил, что я остолбенел от смущения, но, к моему удивлению, он и не думал сердиться по поводу невыполненных домашних заданий.
— Тебе не нужно стыдиться их, — ободрил он меня с подчеркнутой, необычной мягкостью. — Когда-нибудь они могут принести тебе славу, как Оксанену. [40] И отнюдь не зазорно, что сын пастора из Иисалми Юхани Ахо [41] или мой собственный сын Казимир Лейно который, кроме того, магистр философии — пишут. Но если Хейк-ки Мериляйнен, мой помощник, не получивший никакого образования, примется писать, так это он будет дурака валять.
И он дал мне добрый совет — стать образованным человеком, как и другие по-настоящему значительные писатели, чтобы я мог учить литературе и других. И даже теперь весьма похвально, что я, помимо школьных занятий, упражнялся в таком во всех отношениях прекрасном и просвещающем искусстве, которое может стать большой радостью и для окружающих. Поэтому мне совершенно не надо стыдиться и теперешних стихотворных проб и прятать свои тетради в синей обложке в мусор за конюшней или в кучи стружек, где их все равно найдут служанки и батраки. Будущей осенью я должен привезти их ему, для хранения в его собственном комоде.
Эта будущая осень не настала никогда. Он умер вскоре, той же зимой, в последний раз я видел его в рождественские дни. Когда он умер, я уже вернулся в город, где учился, и не могу сказать, что я очень сильно горевал об этом событии. Трагичность его, как и связанную с ним трудность собственной судьбы, я успел уже задолго до этого гораздо достовернее и серьезнее пережить в своем воображении.
Одну деталь о его смерти мне все-таки рассказали, и я думаю, что это правда. Отец, уже много лет принимавший таблетки, порошки и всякие микстуры, которые прописывал ему окружной врач Инберг, однажды по-братски спросил у того:
— Есть от них еще хоть какой-то прок?
— Нет, — сказал этот на редкость честный окружной врач после минуты тягостного раздумья.
— Хорошо, — ответил на это отец. — Спасибо за старую дружбу.
Один ушел со слезами на глазах, а другой повернулся к стене, пролежал так еще три дня, ни на что не реагируя, ни с кем не разговаривая, и умер, как лесной зверь в своей берлоге.
Но я же собирался говорить о своих литературных устремлениях. Черед их пришел только на следующее лето, причем в такой знаменательной форме, что это в одночасье решило мою будущую писательскую деятельность.
Именно в то лето мой старший брат Казимир Лейно прибыл домой из Парижа, он вернулся совершенно французским господином, целиком изменившим свой прежний провинциальный облик. Тем же летом приехал и самый старший брат, О. А. Ф.Лёнбом (Мустонен), освободившийся на несколько недель от тяжелой учительской и журналистской работы, — он был самым веселым из всех и хотел дать нам, двоим младшим братьям, возможность продолжать школьное образование в его доме «цыгана от науки» в Хямеенлинна.
В тот раз дома собралось одновременно больше братьев и сестер, чем когда-либо на моей памяти. А именно: три сестры, старшая из которых сошла с ума раньше, чем я себя помню; вторая, окончившая курсы усовершенствования учительница, вынужденная из-за ослабевшего слуха оставить работу в школе, и третья — только что закончившая курсы курносая школьница, не способная ни на мгновение перестать смеяться и вообще воспринимать мир с серьезной стороны. И вдобавок к ним пятеро братьев: один — теперь уже давно покойный техник-строитель, умерший помешанным, второй — жизнерадостный и помолвленный молодой землемер по имени Карл, и поныне все такой же веселый, живущий пенсионером в Каяни; третий — тоже помолвленный, во втором классе бросивший лицей земледелец и продолживший затем свой жизненный путь далеко от родных мест рыбаком на побережье Руйя [42], и четвертый — так же как н я, пятый, — лицеист и будущий бездельник.
Можно догадаться, что в те дни в старом доме на берегу тихого залива горе и печаль не гостили, несмотря на смерть хозяина прошедшей зимой.
Напротив — и озеро, и берега залива звенели радостью настоящего, надеждами будущего и всем неизмеримым восторгом бытия. И даже за их пределы докатывалась оттуда золотая волна жизни, перекликаясь с «Перекрестными волнами» Казимира Лейно, которые он как раз готовил к изданию, а «Просторные воды» [43] плескались нежной и чуткой, как народная песня, зыбью в благодушном мурлыканье О. А. Ф. Мустонена, когда он в длинных своих рыболовных рейсах вдоль колышущихся плесов сидел на корме лодки бородатым богатырем, а я на передней банке работал веслами, вслушиваясь попеременно в кантеле [44] природы и певца.
Большинство его стихов, похоже, никогда не были собраны в книгу, рождаясь моментально и моментально же испаряясь. Одно из них, думаю, начиналось примерно таким образом:
Второе — которое, кажется, появилось в каком-то из рождественских журналов того времени — было, по-моему, очень красиво. Оно рассказывало о летнем вечере, вечернем облаке, вечернем ветре и снегире; все они растворялись в сумерках белой ночи. С рассветом же снова появлялись и ветер, и облако, и, возможно, какая-то еще присущая настроению деталь, не появлялся только снегирь. Поэт видит, что все остальное возвращается, и перед этим фактом разражается следующим двустишием-жалобой:
В третьем стихотворении, которого я, впрочем, в этих поездках на рыбалку не слышал, а только читал потом в посвященном памяти какого-то великого финна студенческом журнале, была простая история о юноше и девушке, стоявших летней ночью на вершине горы. И там вышел у них спор: вечерняя или утренняя заря тот красный отблеск, что виднеется по краям облака. Они спорили, спорили, и…
И в это время взошло солнце Севера.
Их были, наверное, сотни, а может, и тысячи. Опубликовано из них не много, но плохо же я знал бы своего брата, глубокоуважаемого патриарха музея в Куопио, если бы поверил, что он в какой-то момент писательского отчаяния предал их огню. Правда, все возможно.
Он тоже был тогда здорово влюблен.
Мне, со своей стороны, пожалуй, не требуется пояснять, что касательно любви и стихосложения я был отнюдь не самым вялым, хотя и самым малым среди великих царей Израилевых. И то и другое как бы относилось к профессии, как сказал персидский шах по поводу одной из попыток покушения на него в Париже. Поэзия, кажется, была в то лето все-таки на первом плане. По крайней мере, вспоминаю как самое значительное событие лета, что брат Казимир, которому наши сестры насплетничали про мои стихотворные опыты, в один прекрасный день попросил меня показать их.






















