Мир сновидений
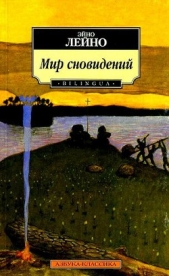
Мир сновидений читать книгу онлайн
В истории финской литературы XX века за Эйно Лейно (Эйно Печальным) прочно закрепилась слава первого поэта. Однако творчество Лейно вышло за пределы одной страны, перестав быть только национальным достоянием. Литературное наследие «великого художника слова», как называл Лейно Максим Горький, в значительной мере обогатило европейскую духовную культуру. И хотя со дня рождения Эйно Лейно минуло почти 130 лет, лучшие его стихотворения по-прежнему живут, и финский язык звучит в них прекрасной мелодией. Настоящее издание впервые знакомит читателей с творчеством финского писателя в столь полном объеме, в книгу включены как его поэтические, так и прозаические произведения. Поэтические переводы даны в сопровождении текстов на языке оригинала. Все переводы выполнены Э. Иоффе, большинство из них публикуются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но тут-то он и заявился домой — пролез под ворота, хромающий и окровавленный, и, поев, сразу же залег в огороде, откуда пару дней не показывался вовсе. Только грустно помахивал хвостом проходящим мимо. Мы, дети, конечно, заботились, чтобы ему там хватало еды.
Так он лежал, так залечивал он свои раны и копил силы для новых сражений.
Прежние поражения скоро забывались. И вновь стоял он посреди двора, крепко упершись лапами в собственные владения, грозно заявляя каждому вновь прибывшему о своем безусловном хозяйском праве — только он решал, кому он позволит ходить по территории этих владений, а кому нет.
Мое отношение к его собачьему разумению было и осталось непоколебимым. Он научился относиться ко мне с недоверием уже с самого раннего моего детства. Было невозможно заставить его попробовать горчицу, даже намазанную между двумя вкуснейшими бутербродами. Так же невозможно было подманить его к осиному гнезду, с которым у него был связан очень даже печальный опыт.
Именно в эти ранние детские годы я заметил однажды шершней, летающих туда-сюда из-под отстающей доски в обшивке дома, и оттуда на камень фундамента высыпался уже целый слой опилок. Я догадался, что там находится славное осиное гнездо, и пожелал разделить хотя бы половину своего радостного наблюдения с Товарищем.
— Зум-зум-зум-зум-зум, — сказал я ему, складывая ладони лодочкой, как будто держа что-то внутри.
— Зим-зим-зим-зим, — отозвался он, очень чутко следя за каждым движением моего лица и голоса.
— Зум-зум! — сказал я ему, подманивая его прямо к отверстию.
— Пр-р-р-р! — возопили его душа и тело с искренним участием.
— Сам-сам-сам-сам…
И он разворошил своими щенячьими передними лапами все осиное гнездо.
— Зумзумзумзум! — кричал я, в предчувствии неприятностей заранее заворачивая голову в свою короткую летнюю куртку.
Я уже почувствовал, что о нее ударяется больше чем одно жалящее создание. Но они, заметив всю непроницаемость моего черепахообразного существа, оставили меня в покое, чтобы с тем большей яростью, бешенством и отчаянием кинуться на своего заклятого врага, каковым — спасибо всем светлым силам — они считали вышеупомянутого владельца мохнатых лап.
Он вопил, он вопил как резаный, кружился по двору и мучился невыразимо.
Одна оса впилась в его чрезвычайно чувствительный орган обоняния, другая в еще более благородные члены. Напрасно он пытался стряхнуть их передними лапами и соскрести задними. Они скорее погибли бы, чем посрамили осиные права.
Три дня он, уткнувшись в сырую глину, залечивал свою израненную мордочку. А когда он вылез оттуда, его было не узнать. Морда пса была похожа на воронку: она раздулась, вспухла — изменилась до неузнаваемости.
Он понимал тогда весь комизм ситуации, так же он чувствовал себя и позднее, когда однажды попытался по секрету от меня зарыть в огороде сахарную кость, добытую, вероятно, с большим трудом.
Я отозвал его подальше, выкопал драгоценную сахарную косточку и перепрятал ее в другом месте. А потом подбивал его на поиски, роя землю там, где ее якобы можно было отыскать.
Он уже и до того сильно сомневался во мне, но не был вполне уверен, когда я шучу, а когда говорю ему правду. Увидев же, что я могу шутить даже такой святыней, какой в его представлении была сахарная кость, он больше не доверял мне ни в чем. А в отместку грыз и трепал мою зимнюю шапку с такой яростью, что брат сильно заволновался о ее участи.
Именно брат научил эту неразумную тварь «снимать шапку с головы мужчины», как он именовал этот трюк.
Дело в том, что моему отцу совсем не нравилось, когда посетители заходили в его священную келью в головных уборах. Товарищ, сладко дремавший днем под его письменным столом, готов был мгновенно вскочить, услышав слова: «Сними шапку с головы мужчины!» Товарищ прыгал. Он пролетал возле головы посетителя, вцеплялся в его зимнюю шапку и срывал чуть ли не вместе с головой. Мы так и не смогли приучить его к достаточному самообладанию и сдержанности.
В последние годы жизни отца Товарищ почти в одиночку управлял всей усадьбой, особенно ее верхним двором.
Отец всегда терпеть не мог кошек. Но сразу же весной, после его смерти в январе, я увидел пестрого котенка, умывающегося на подоконнике детской комнаты.
— Товарищ! — напомнил я о присутствии грозной опасности. — Фас, взять!
Товарищ заворчал, показывая, что понимает мои чувства, и помахал хвостом — повел себя по отношению ко мне с присущей ему последовательностью.
Это и был, наверное, последний урок великого умения жить, который он мне преподал. Потому что, когда я в следующий раз попал в родные края, Товарища уже не было на свете.
И что он теперь? Только след на снегу, только грезы идущего своим путем седовласого ребенка. Я сильно сомневаюсь — а жил ли он ког-да-нибудь?
Наверняка жил, раз сумел оставить такие глубокие следы в моей душе.
На старости лет он больше не искал приключений. Он мыслил.
Насколько его несравненная наблюдательность была похожа на притупившуюся, но первоначально такую же чуткую наблюдательность автора этих строк, становится ясным даже из этих мимолетных раздумий.
II. ОУЛУ И КАЯНИ
И все же главная резиденция бывшего баронского лена Питера Браге [21] была не первым городом, где я учился. До того я провел целых две зимы в Оулу, у нашей тети Ольги Кирениус, державшей там пансион, где и другие мои братья и сестры проходили подготовку перед гимназией и женской школой, некоторые из них даже до второго и третьего класса.
Она, при всей своей скромности, была весьма исключительной личностью, эта замечательная оулуская тетушка. Думаю, что в то время подобных ей можно было найти и в других местах Финляндского полуострова. Но для города Сары Ваклин [22] они были особенно характерны.
Ольга Кирениус — и как закончившая немецкую гимназию в Выборге, и по своему восточнофинскому характеру и особенностям — была среди них исключением. Она говорила на пятишести языках и вдобавок к ним самостоятельно овладела азами латыни, чтобы правильно руководить обучением детей своей сестры Эмилии.
Вовсе не плохи были эти тогдашние немецкие женские школы в Выборге, Таллине, Тарту, Риге и вообще в той области России, которую по традиции называли балтийско-германской. Главным в них было отнюдь не преподавание сухих знаний или бесплодное деление чисел. Здесь более воспитывали, чем обучали. Знание было хорошо — «Ученье в канаву не свалит», но его надо было уметь применять в битве жизни.
И чему же молодых женщин учили? Языкам, вышиванию, музыке, танцам, поклонам, реверансам и вообще хорошим манерам. Они читали все лучшее, что содержала мировая литература, воспитывали зрение посещениями художественных музеев и развивали слух на выступлениях выдающихся отечественных и зарубежных музыкантов.
Педагогика не с Песталоцци родилась. Сквозь столетия тянулись те золотые нити, по которым западное, а через них и восточное просвещение проникло в преддверие Европы.
Используя эти и многие прочие качества и опираясь на лучшие воспитательные традиции своего времени, Ольга Кирениус существовала в атмосфере приморского города Оулу как у себя дома.
Было что-то, что еще до появления там железных дорог можно было назвать космополитизмом. И уж если кто и мог считать себя гражданином мира, так это она — рассудительная женщина с живым умом и всегда внимательными серо-стальными глазами, умевшая поддерживать интерес мальчиков и девочек волнующими их вопросами и ответами, касались они школы или дома, непотизма [23] или пеннализма [24], загадок древности или самых злободневных проблем.






















