Пауки
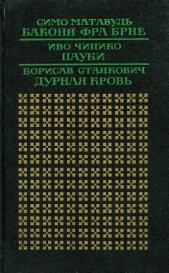
Пауки читать книгу онлайн
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он взобрался зачем-то на гору. Долго блуждал по ее склонам, набрел на летний загон для скота. И тут все было пустынно, ветер хлопал воротами и равномерно раскачивал склонившуюся над ними надломанную ветку.
«Чего ради забрался я сюда?» — подумал он и спустился по той же дороге.

Придя домой, Раде грустно усмехнулся, когда старший сын неожиданно сказал:
— Где ты был, папа?.. Что бегаешь из дому?
Остальную часть дня Раде просидел у очага, куря трубку за трубкой и перебрасываясь с женой и матерью отрывистыми фразами, не имевшими отношения к неустанно сверлившей его мозг думе.
К вечеру он ждал кузнеца, который согласно уговору должен был принести деньги, но кузнец не являлся. Почти совсем смерклось, когда неожиданно пришла Маша. Отозвав в сторону Божицу, она вынула из-за пазухи монисто, залог Раде, и сказала:
— Вот тебе, Божица, это твое!
— Не могу я взять без Раде…
Монисто звякнуло… Раде встал и подошел к женщинам.
— Ты за чем, Маша? — спросил он.
— Принесла Божице монисто, нашла его в вещах у Марко, узнала, что это ее…
— Да ведь оно в залоге…
— Знаю.
— Не могу я принять от тебя, пока не выкуплю.
— Я сама выкуплю или поручусь за тебя… — промолвила она улыбаясь. И, протягивая монисто Божице, продолжала: — Возьми, это твое.
Но Божица и на этот раз не взяла, только взглянула на Раде.
— Забери его, Маша! Спасибо тебе! — подумав, сказал Раде решительно. — Положи на место, прошу тебя!
— Разве я тебе противна, Раде? — робко произнесла молодая женщина и побледнела.
— Нет, ни ты, Маша, ни она. — Он указал рукой на Божицу. — Только не время сейчас разговаривать; ступай, забирай монисто!
Но, взглянув на Божицу и словно что-то вспомнив, передумал:
— Погоди, Маша!
Подошел к своему сундуку, открыл его, вынул торбу, поднес ее ближе к огню; подозвав Машу, извлек из торбы сверток с кронами и отсчитал ей на ладонь десять талеров.
— Отдай Марко, и спасибо тебе! Бери!
Взял у Маши монисто и передал его Божице.
— На, твое это! Сбереги, пускай только мое пропадает!
— Прощай, Маша, прощай! Спасибо тебе!
— Прощай, Раде!
…В ту ночь Раде крепко уснул, но сон его был недолог; проснувшись, потянулся, зевнул и в то же мгновение вспомнил о нависшей над ними беде, она представилась ясно, отчетливо… И несказанная боль охватила его, подавляя разум, убивая надежду. Когда же пробился сквозь щели рассвет, Раде встал, накинул кабаницу и направился к двери.
— Куда, сынок, в такую рань? — покашливая, спросила старуха.
— Есть дела на селе, — ответил Раде и вышел. Зимний день разгорался, ясный, погожий и холодный. Ночью подул северяк и, завывая, прогнал клочья серых туч, притулившихся кое-где к скалам и горным кряжам.
Раде пошел к мельницам поглядеть на свою пашню, прилегавшую к самому двору и огороду нового газдиного дома. Борозды мирно дожидались весны и солнца. Однако пробыл он здесь недолго. Ловко перепрыгивая с камня на камень, Раде перебрался через речку, вышел на свой луг и уставился на бежавшую по оврагу воду. Мельник видел, как он дважды прошелся вдоль оврага, потом остановился и упорно на что-то смотрел. А Раде и в самом деле загляделся на отражавшиеся в воде горные вершины. И до чего же памятны ему те места на склоне гор — перед ним встали Маша, пещера, молодая роща, он задумался… Долго стоял Раде у края луга, словно его убаюкивал шум водопада, и, прислушиваясь, глядел на воду. То главное, о чем он думал, затаилось, хлынули бесконечные воспоминания детства… Собственно, это были даже не воспоминания: отрывочные образы, подобно облачкам в небе, просветам синевы, силуэтам деревьев, всему тому, что отражалось в воде.
«Мальчиком я ловил здесь раков! — думал Раде, глядя на оголенные, будто озябшие вербы, дрожавшие на ветру у самой воды. — Вон из-под той вербы я когда-то унес сорочки у двух купавшихся девчонок, да так и не отдал, покуда сами ко мне не подошли голые… Что это на меня нашло? — подумал он, приходя в себя. — В детство, что ли, впадаю или схожу с ума?»
Ровным шагом возвратился он через брод к мельницам. Зашел на мельницу.
— Забыл дома табак, дай-ка твой кисет, набью трубку! — попросил он мельника.
Схватил щипцами уголек, прикурил и опять засмотрелся на мельничное колесо…
Собрался было уходить, но, увидав точило, спохватился: вынул из ножен висевший на поясе нож и наточил его. Подняв с пола щепочку, попробовал на ней, хорошо ли отточен, и сунул обратно в ножны. Ушел, даже не отозвавшись на приглашение мельника погреться у камелька.
За обедом едва прикоснулся к пуре, закурил и весь день, не отводя глаз от огня, курил трубку за трубкой.
К вечеру Раде снова стал с нетерпением ждать кузнеца, а завидя его, даже вздрогнул, словно очнулся от забытья.
— Вот деньги, Раде! — сказал изрядно подвыпивший кузнец… И стал считать… — Вот тебе… Только не обижайся, мало тебе проку от них. Если уж газда решил пустить по миру… то сам господь бог…
— Кто сказал? — перебил его Раде, поднимаясь.
— В городе болтают…
— Поглядим! — вспыхнул Раде, глаза его сверкнули. — Не сдамся, покуда голова на плечах!.. Не сдамся ни за что на свете!
— Брось, Раде, сынок! Негоже слушать зряшные разговоры, — вмешалась старуха.
Но Раде пришел в такую ярость, что решил больше не ждать: завтра же пойдет к газде, и будь что будет!
За ужином мать просила его хоть чего-нибудь поесть — сварила несколько яиц. Материнские уговоры не помогли. Едва коснувшись еды, он отказался:
— Не могу, мама! Поперек горла кусок становится, точно свинец.
Раде раньше обычного завалился в постель, даже не сняв мокрой обуви. Лежа старался сосредоточить мысли на завтрашнем дне: все обдумать, рассудить, предусмотреть до конца, что ждет его завтра. И кажется Раде, что это придаст ему силы, укрепит… Но все напрасно: в голову лезет какой-то ненужный вздор. Раде с удивлением прислушивался к себе, и как ни хотелось ему сосредоточиться, дрема все же одолела его, и он уснул.
Во сне Раде очутился вдруг среди поля. Будто бредет он через ржавую лужу, увязая мало-помалу в грязи. Лужа все глубже, Раде с трудом передвигает ноги, но все же силится идти вперед, — и погружается все глубже. Он едва вытаскивает ноги, вода все выше, и все же силы не покидают его: край уже близко, вот-вот выберется… и вдруг снова проваливается в мутную, грязную воду… Ноги и руки запутались в осоке и еще какой-то полусгнившей, пахнущей болотом траве, вода подступает к самому горлу… Раде захлебывается… Напрягает все силы, чтобы выбраться на луг, на сушу. Еще усилие — и он будет на берегу. Раде протягивает руки, чтобы ухватиться за что-нибудь… он весь в поту, хочет крикнуть, но не может открыть рта… Вдруг он видит, как у самой воды появляется откуда-то газда Йово. Вытянув руки вверх, он держит в каждой по нескольку яиц… В смертельном страхе Раде напрягает последние силы, чтобы позвать его на помощь, но не может произнести ни слова… Он не сводит с газды глаз, протягивает к нему руки, чтобы тот его вытащил. Газда подходит ближе, такой грузный, хочет ему помочь, суетится, но рук не опускает, а в руках у него яйца… Газда озирается по сторонам, видно, ищет надежное место, куда бы их положить, и все-таки не выпускает из рук. Раде задыхается, вода уже подступила к горлу, порывается сказать газде — пусть бросит яйца, пусть поможет, а не то еще мгновение — и он утонет… Но тщетно…
Раде проснулся весь в поту, тяжело дыша… в полусне судорожно сжал руку спящей рядом Божицы.
— Ты не спишь, Раде? — вздрогнула она.
— Не сплю… э, не сплю… что?
И больше он уже не сомкнул глаз. Окончательно придя в себя после дурного сна, Раде снова ушел в свои мысли, которые мало-помалу становились все ясней, отчетливей.
«Снимет с меня голову!» — думал он, вздрагивая от душевной боли. Но боль унялась, и он решил: «Пойду-ка я на рассвете к газде, попрошу принять деньги в счет долга и отменить торги; не может быть, чтобы он не смягчился при виде такой уймы деньжищ… — Раде успокаивается от этой мысли и снова впадает в сомнение: — А как не согласится? Убью, — решает он. — Да, убью!» — повторяет он убежденно… и чувствует какое-то облегчение. «И справедливо, если его покарает чья-либо рука, — оправдывает он созревшее решение. — Сколько людей, здоровых и сильных, загубил он, пустил по миру, а за что? Будь хотя бы нужда в этих землях, хотя бы пользовался ими, а то попусту! Ни разу даже не побывал, не навестил эти свои нивы, луга и рощи… Да разве газда понимает, что такое земля? Так почему же она должна ему принадлежать?! Разве он унаследовал ее от дедов? Или орошал ее когда-нибудь своим потом? И нет у него ни детей, ни внуков… Кому он оставит несметные богатства, между кем и кем разделит свои земли?.. Или завещает все незаконнорожденному сыну?.. А кто знает, его ли это сын?»

























