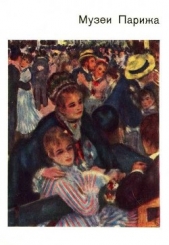Преступление Сильвестра Бонара. Остров пингвинов. Боги жаждут

Преступление Сильвестра Бонара. Остров пингвинов. Боги жаждут читать книгу онлайн
Анатоль Франс — классик французской литературы, мастер философского романа.
Действие романа «Преступление Сильвестра Бонара» происходит в Париже 1860-1880-х гг. Его герой — старый книжник, одержимый благородной страстью к старинным рукописям, очень близок самому автору. Под каждым словом этого объяснения в любви родному городу мог бы подписаться и сам Анатоль Франс — сын букиниста, парижанин, ставший одним из самых знаменитых писателей Франции и Европы.
В «Острове пингвинов» в гротескной форме изображена история человеческого общества от его возникновения до новейших времен. По мере развития сюжета романа все большее место занимает в нем сатира на современное писателю французское буржуазное общество. Остроумие рассказчика, яркость социальных характеристик придают книге неувядаемую свежесть.
Перевод с французского Евгения Корша, Валентины Дынник и Бенедикта Лившица.
Вступительная статья Валентины Дынник.
Составитель примечаний С.Брахман.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Женщины, узнавшие Гамлена, кричали: — Туда тебе и дорога, кровопийца! Убийца, подрядившийся за восемнадцать франков в день!.. Он уже не смеется: смотрите, как он бледен… трус!
Это были те же самые женщины, которые недавно осыпали бранью заговорщиков и аристократов, крайних и умеренных — всех, кого Гамлен и его товарищи посылали на гильотину.
Телега свернула на набережную Морфондю и медленно поплелась по Новому Мосту и Монетной улице: дорога вела на площадь Революции, к эшафоту Робеспьера. Лошадь хромала; кучер поминутно стегал ее кнутом по ушам. Веселая, оживленная толпа любопытных замедляла движение конвоя. Публика приветствовала жандармов, сдерживавших коней. На углу улицы Оноре оскорбления удвоились. Молодые люди, сидевшие за столиками в залах второго этажа модных ресторанов, высыпали к окнам, с салфетками в руках.
— Каннибалы! Людоеды! Вампиры! — кричали они.
Когда телега застряла в куче нечистот, которых не убирали за эти два дня всеобщего смятения, золотая молодежь пришла в восторг:
— Телега увязла в навозе!.. Там вам и место, якобинцы!
Гамлен был занят своими мыслями, и ему казалось, что он все понимает.
«Я заслуживаю смерти, — думал он. — Все мы поделом терпим поношения, которыми в нашем лице осыпают Республику и от которых нам следовало оградить ее. Мы проявили слабость. Мы грешили снисходительностью. Мы предали Республику. Мы заслужили свой жребий. Робеспьер, безупречный, праведный Робеспьер, и тот повинен в кротости и в снисходительности; он искупил эти ошибки своим мученичеством. Подобно ему, я тоже предал Республику; она погибает; справедливость требует, чтобы я умер вместе с ней. Я щадил кровь других; пускай же прольется моя собственная кровь! Пусть я погибну! Я это заслужил…»
Предаваясь этим размышлениям, он вдруг заметил вывеску «Амура-Художника»: воспоминания, и горестные и сладостные, бурным потоком нахлынули на него.
Лавка была заперта; жалюзи на всех трех окнах во втором этаже были спущены донизу. Когда телега проезжала под левым окном, окном голубой спальни, женская рука с серебряным кольцом на безыменном пальце слегка приподняла край жалюзи и кинула Гамлену красную гвоздику, которую он не смог поймать, так как руки у него были связаны, но он впился в нее взглядом, ибо она была для него символом и образом красных благоуханных уст, столько раз даривших прохладу его губам. Глаза его наполнились слезами, и, еще весь проникнутый очарованием этого последнего привета, он увидал на площади Революции сверкавший над толпою окровавленный нож.
XXIX
На Сене уже показался первый лед нивоза. Бассейны Тюильри, ручейки, фонтаны замерзли. Северный ветер поднимал на улицах облака снежной пыли. У лошадей шел из ноздрей белый пар. Горожане, проходя мимо лавок оптиков, взглядывали на термометр. Приказчик протирал заиндевелые окна «Амура-Художника», и любопытные останавливались поглазеть на модные эстампы: на Робеспьера, выжимающего над чашей человеческое сердце, словно лимон, чтобы напиться крови, и на большие аллегорические картины, вроде «Тигрократии Робеспьера», представлявшей сплошное нагромождение гидр, змей, страшных чудовищ, которых тиран спустил на Францию. Тут же были выставлены: «Ужасный заговор Робеспьера», «Арест Робеспьера», «Смерть Робеспьера».
В этот день, после обеда, Филипп Демаи с папкой под мышкой вошел в лавку Жана Блеза. Он принес ему доску, на которой выгравировал пунктиром «Самоубийство Робеспьера». Язвительно-насмешливый резец гравера изобразил Робеспьера настолько отвратительным, насколько это было возможно. Французский народ еще не успел упиться подобными произведениями, пытавшимися увековечить чудовищные и позорные деяния человека, которого теперь винили во всех преступлениях революции. Однако торговец эстампами, знавший публику, предупредил Демаи, что отныне он будет заказывать ему только военные сюжеты.
— Нам понадобятся победы и завоевания, сабли, султаны, генералы. Мы вступили на путь славы. Я это чувствую по себе: сердце у меня усиленно бьется при рассказах о подвигах наших доблестных армий. А когда я испытываю какое-нибудь чувство, редко бывает, чтобы все не испытывали его одновременно со мной. Воины и женщины, Марс и Венера — вот что нам нужно.
— Гражданин Блез, у меня остались еще два — три рисунка Гамлена, которые вы дали мне гравировать. Надо ли с этим поторопиться?
— Совершенно незачем.
— Кстати о Гамлене: вчера, проходя по бульвару Тампль, я видел у одного старьевщика, лавка которого помещается как раз напротив дома Бомарше, все полотна этого несчастного, в том числе его «Ореста и Электру». Голова Ореста, похожая на Гамлена, прекрасна, уверяю вас… голова и плечо великолепны… Старьевщик мне сказал, что он продает эти холсты художникам, которые заново будут писать на них свои картины… Бедняга Гамлен! Из него, быть может, выработался бы первоклассный живописец, не займись он политикой.
— У него была душа преступника! — возразил гражданин Блез. — Я вывел его на чистую воду вот на этом самом месте, еще в ту пору, когда он не давал воли своим кровожадным инстинктам. Этого он никогда не мог мне простить… О, это был редкий мерзавец!
— Бедняга! Он был искренен. Его погубили фанатики.
— Надеюсь, вы не станете оправдывать его, Демаи?.. Ему нет оправдания.
— Да, гражданин Блез, ему нет оправдания. Гражданин Блез похлопал красавца Демаи по плечу.
— Времена изменились. Теперь, когда Конвент зовет изгнанников обратно, вас можно называть «Барбару»… Знаете, Демаи, что мне пришло в голову? Выгравируйте-ка портрет Шарлотты Корде.
В лавку вошла закутанная в меха высокая, красивая брюнетка и по-приятельски кивнула гражданину Блезу головой. Это была Жюли Гамлен; но она уже не носила этой обесчещенной фамилии, она называла себя вдовой Шассань, и под шубкой на ней была надета красная туника в честь красных рубашек эпохи террора.
Сначала Жюли испытывала недобрые чувства к любовнице Эвариста: все, что имело какое-либо отношение к брату, было ей ненавистно. Но гражданка Блез после смерти Эвариста приютила его несчастную мать в каморке под самой крышей «Амура-Художника». Жюли на первых порах тоже нашла там убежище, затем она получила место в модной лавке на Ломбардской улице. Коротко остриженные в стиле «жертвы гильотины» волосы, аристократическая внешность, траур привлекали к ней симпатии золотой молодежи. Жан Блез, которого Роза Тевенен бросила почти совсем, стал проявлять к ней усиленное внимание, и она не отказывалась от его ухаживаний. Как в прежние трагические дни, Жюли любила одеваться в мужской костюм; она заказала себе щегольской фрак и часто отправлялась с огромной тростью в руке в Севр или в Медон поужинать там со знакомой модисткой в каком-нибудь кабачке. Мужественная Жюли все еще не могла утешиться после смерти молодого дворянина, чье имя она носила, и только в ярости находила некоторое облегчение своей скорби: встречая якобинцев, она натравливала на них прохожих, настаивая на расправе с ними. Матери она уделяла мало времени, и та, одна в своей каморке, по целым дням перебирала четки: трагическая гибель сына до того потрясла ее, что она даже не чувствовала горя. Роза также стала близкой подругой Элоди, которая обладала способностью отлично уживаться со своими «мачехами».
— Где Элоди? — спросила гражданка Шассань. Жан Блез отрицательно покачал головой. Он никогда не знал, где его дочь: это было правилом, которого он твердо держался.
Жюли зашла за ней, чтобы вместе отправиться к Розе Тевенен, в Монсо, где у актрисы был маленький домик с английским садом.
В Консьержери Роза Тевенен познакомилась с гражданином Монфором, занимавшимся крупными поставками на армию. Когда ее благодаря хлопотам Жана Блеза выпустили на свободу, она добилась освобождения гражданина Монфора, и тот сейчас же по выходе из тюрьмы занялся поставками провианта в воинские части, а также стал скупать земельные участки в квартале, Пепиньер. Архитекторы Леду, Оливье и Вайи настроили там целый ряд хорошеньких домиков, и в каких-нибудь три месяца цена земли поднялась втрое. Монфор со времени совместного заключения в Люксембурге был любовником Розы Тевенен: он подарил ей маленький особняк близ Тиволи, на улице Роше. Особняк этот стоил больших денег, но Монфору, можно сказать, достался даром, так как продажа соседних участков с излишком покрыла все расходы. Жан Блез был человек воспитанный: он полагал, что надо мириться с тем, чему мы не в силах воспрепятствовать: он уступил Розу Тевенен Монфору без ссоры.