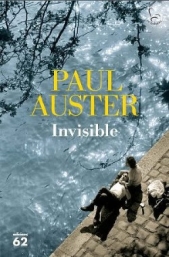Невидимый

Невидимый читать книгу онлайн
Ярослав Гавличек (1896–1943) — крупный чешский прозаик 30—40-х годов, мастер психологического портрета. Роман «Невидимый» (1937) — первое произведение писателя, выходящее на русском языке, — значительное социально-философское полотно, повествующее об истории распада и вырождения семьи фабриканта Хайна.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Единственное, что еще доставляло мне какое-то удовлетворение, было то, что Соня по-прежнему испытывала чувство известной ответственности передо мной — да, вот верное слово! Старый Фюрст, по-видимому, очень любил сыновей. Он предоставлял им полную возможность веселиться с дочерью своего друга. Быть может, причиной тому было легкомысленное доверие к молодежи, а может, и убеждение, что там, где трое, один всегда следит за другим. Не исключено, однако, что старик рассчитывал и на то, что со временем Соня станет женой Феликса. Правда, они были почти ровесники. Но какой прок был мне тешить себя надеждой, что эта слишком незначительная разница в возрасте когда-нибудь в будущем сыграет против Феликса, если у меня сегодня, сейчас, не было еще ни профессии, ни работы, а меня уже выбивали из седла, и мне грозило, стараниями Феликса, навсегда потерять Соню? Утешаться тем, что и он, быть может, не получит ее? Утешение для мальчика, не для мужчины!
Они с Соней устраивали проделки, которые мне отнюдь не нравились. Раз как-то целый вечер учили ее курить. Мои попытки прекратить это ни к чему не привели. Я стал врагом из лагеря стариков. Человеком, которого, правда, нужно слушаться, но которого можно обманывать, а после этого презирать.
В течение какого-то времени я пытался поссорить братьев. Но если и была у них какая-то добродетель, то именно братская солидарность. Они могли спорить друг с другом до драки, но стоило вмешаться третьему и принять сторону одного из них — оба тотчас объединялись против общего неприятеля. Братья были проницательны. Они умели чуять противника и определять, каким оружием с ним бороться. Дополняя друг друга, они были почти неуязвимы. Принизить их в глазах Сони! Бог ты мой, сколько раз я тщетно пытался этого добиться!
Я носил за Соней ее сумочку, ее пальто, в кармане у меня всегда было какое-нибудь лакомство для нее — короче, я выступал в роли этакого доброго дядюшки, в то время как мальчишки Фюрста за моей спиной вели игру молодости — за мой счет. Я никогда им этого не простил. Никогда, говорю. Всегда я всей душой стремился отплатить им злом за то зло, которое они мне причиняли. Они же видели, что, хоть я и улыбаюсь, но себя не помню от ярости. «Петя, Петя, петушок, золотой гребешок, полно кипятиться, ведь можно обвариться», — напевал тогда Макс детскую песенку. В ней не было ничего обидного, но Соня начинала хохотать, а я приходил в замешательство и делался смешным.
Признаюсь, после того, как в мою жизнь вошли эти братья, интерес мой к Соне значительно повысился. Он стал почти страстью. Где была моя холодность времен ее гощения у Донтов! Хотел я того или нет, а приходилось страдать. Я и на самом деле страдал. Поняв, до чего я отстал в литературе, в искусстве, в умении вести беседу, я впервые в жизни ощутил себя по-настоящему бедняком. Я работал до одури, пока другие веселились. Я вынужден был серьезно относиться к жизни в то время, как другие позволяли себе легкомыслие. Как несправедлив мир, если те, другие, жили в радости и в роскоши, пока я перебивался с хлеба на воду; если эти другие витали в сферах приятных излишеств в то время, как я жилы из себя тянул в борьбе за кусок хлеба! И вот теперь я же расплачиваюсь за то, что жизнь моя более достойна уважения! Теперь я должен потерять то, что добыл с таким трудом, — только потому, что к другим жизнь была ласковее!
Какие у меня были козыри? Только мой труд. А в этом обществе никто не дал бы за него и ломаного гроша. Мудрено смотреть свысока, если противник твой всегда смеется. Я злился. Страдал. Следовало как можно скорее изменить это положение, если я не хотел утратить последней щепотки холодного рассудка. Не мог я выносить долее все эти невысказанные и неопределенные унижения.
Как-то «Иксы» похвастались, что дома они играют в карты на поцелуи. Соня слегка покраснела, когда Макс заявил об этом с невинной естественностью. Я с притворным безразличием пропустил его слова мимо ушей. Соня, кажется, подумала, что от меня ускользнул смысл сообщения. Во всяком случае, у нее могло сложиться впечатление, что меня это ничуть не задело. Несколько дней спустя она не явилась на условленное свидание, что было верхом бестактности. Так поступают с детьми, не со взрослыми. При следующей встрече она извинилась — довольно небрежно. Горе тебе, если обнаружишь свою досаду, назойливый старикашка! Я тщательно следил за своими словами и за выражением своего лица. Снисходительно улыбался ямочками на щеках. Через два дня она опять не пришла и даже не извинилась после. Дела мои были плохи. Соня целиком подпала под влияние Фюрстов. А для них, думаю, стало чем-то вроде спорта — мучить меня. Поначалу им, быть может, просто хотелось попробовать — удастся ли им вывести меня из равновесия. Злые дети, они не знали, что уже лишили меня моего притворного спокойствия!
Однажды, дождливым днем, сидели мы в пивной, которую выбрали «Иксы»; пиво там пили, сидя под фотографиями футболистов и прочих спортивных звезд; пивная была набита битком, хмельные голоса сливались в невообразимый гвалт. Никогда не казался я сам себе смешнее, чем в этой совершенно чуждой мне компании. Но в таком шуме чувствуешь себя примерно так же, как на необитаемом острове, можно делиться с собеседником самой страшной тайной с таким же успехом, как в дремучем лесу — даже отзвук сказанного не достигнет слуха непосвященного.
Во время войны Феликс провел несколько недель в армии и страшно гордился этим, а Макс этой весной прошел призывную комиссию. Феликс начал с шуток по поводу предстоящей военной карьеры брата и пустился ошеломлять Соню пошлыми солдатскими анекдотами, убогими историйками, какие все еще дюжинами рассказывают за пивом и трубкой. Мы сидели, сдвинув головы, — иначе ничего бы не расслышали, — и я делал вид, будто солдатские побасенки Феликса меня необычайно интересуют. Не знаю уж почему, только братья, видно, объяснили себе этот мой мнимый интерес тем, что я вовсе не был на войне, что я — из тех, кто, как тогда выражались, «окопался в тылу». Мысль эта пришлась по вкусу Феликсу, и он решил нанести удар вслепую. А во мне скопилось уже столько горечи, что выступление мое в тот вечер получилось почти театральным. Ну, ничего — тем сильнее оно подействовало. Под шуточки Феликса, допытывавшегося, какие такие мои болезни спасли меня от окопов, я расстегнул левый манжет, не торопясь засучил рукав и показал два шрама на предплечье.
— Что это? — недоуменно пролепетал Феликс.
— Так, пустяки, — ответил я с улыбкой. — Просто памятка от двух шрапнельных осколков.
Это было глупо до крайности, но — подействовало. Соня, которой я никогда и словом не упоминал о том, что побывал на войне, так и ахнула. И забросала меня нетерпеливыми вопросами. Она была из тех девушек, которые переживают боль мужчины чуть ли не как половой акт. Я отвечал скупо, словно нехотя, с той самой улыбкой, которая кажется прекрасной.
— Где я служил? Да в артиллерии.
— Э, пушкари! — Феликс попытался сбить мой повышающийся курс. — Им-то не так доставалось. А я вот — пехота, царица полей!
Я не возразил ни словом.
— Где же вы получили эти раны? — недоверчиво спросил он. — В самом деле на фронте?
Соня глянула на него нахмурившись.
— Да, — просто ответил я, — в самом деле на фронте. Еще у меня прострелена нога, а на спине шрамы от камней, величиной с лесной орех, седьмая Сочская, знаете? Тальяменто. Меня унесли с батареи с сотрясением мозга — разрыв тяжелого снаряда.
— И у вас есть награды? — полюбопытствовала Соня.
Я перечислил их.
— Все эти signa laudis [4] привязывали после войны к собачьим хвостам, — презрительно заметил Феликс.
— Вы правы, — отозвался я. — Я поступил точно так же.
Макс понял, что пора выручать брата.
— Странно, — ехидно вставил он, — как это вы ухитрились заполучить все эти раны.
Я со скромным видом объяснил, что под Монте Граппо от всей моей батареи осталось одно орудие и четыре человека прислуги, а под Санто Микаэле мы, под градом снарядов, вели огонь тридцать шесть часов без передышки. Рассказывал о днях, проведенных на наблюдательном пункте в пехотных окопах, о налетах огромных черных птиц, несущих смерть — итальянских бомбардировщиков, об усеянных трупами горных дорогах, по которым мы отступали, о страшном разгроме на Пьяве [5].